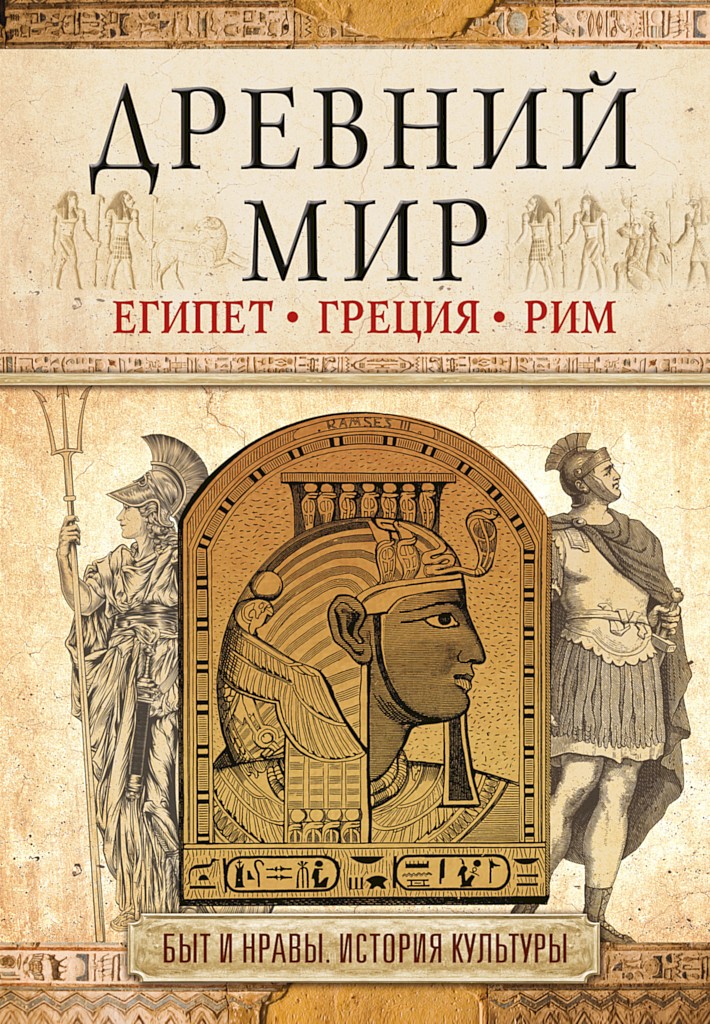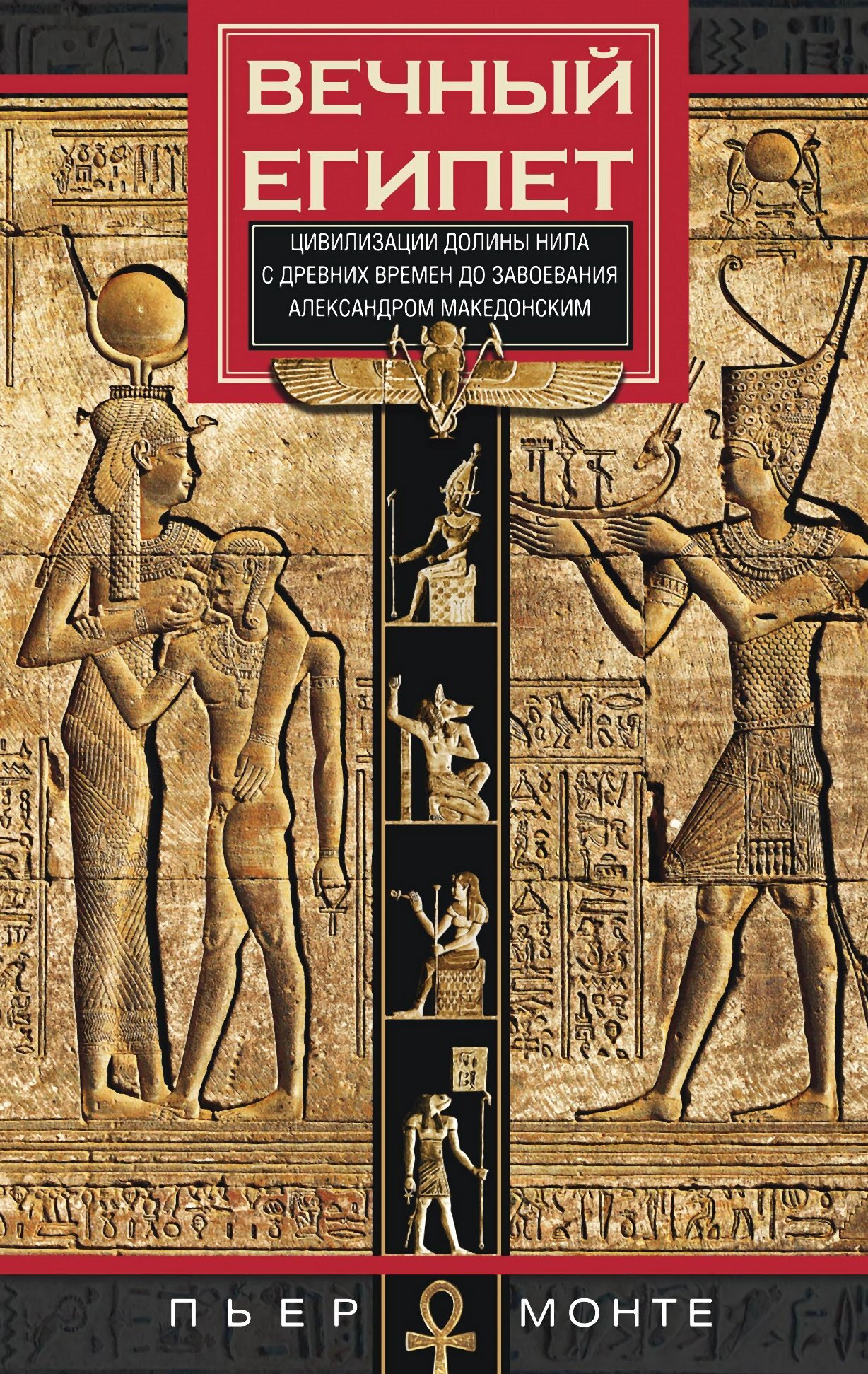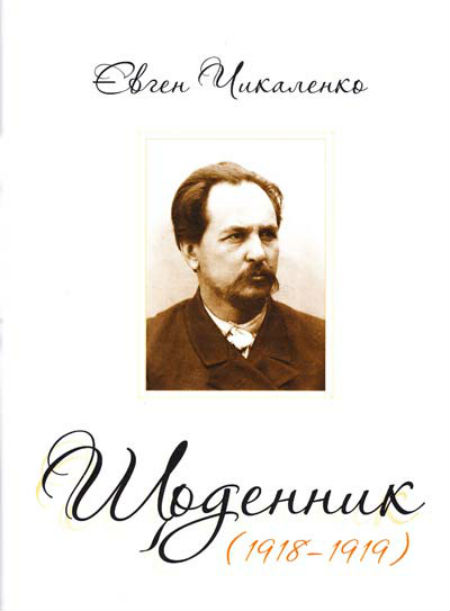Шрифт:
Закладка:
Ключевая фигура русского модернизма Аким Львович Волынский оставил ярчайший след в русской литературе и искусстве Серебряного века. Опередив своё время на 100 лет, предвосхитил современную индоевропеистику, основы которой сформулировал в выдающемся труде «Гиперборейский Гимн», впервые опубликованном в этой книге. Проследив корни происхождения современной человеческой цивилизации, А. Л. Волынский примирил Ближний Восток с его аврамическим монотеизмом и индоевропейскую Гиперборею, которую считал родиной монотеизма, а не язычества.Выдающийся литературный критик-искусствовед и издатель журнала «Северный вестник» в своих статьях резко выступал против модного на стыке веков позитивизма. В искусстве и в системе художественной мысли шел против течений, искал непостижимый гиперборейский идеал.Книга предназначена широкому кругу читателей, в особенности тем, кто увлекается шедеврами российской философии, литературы и искусства эпохи Серебряного века.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.