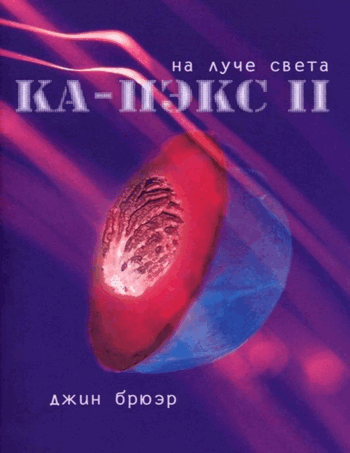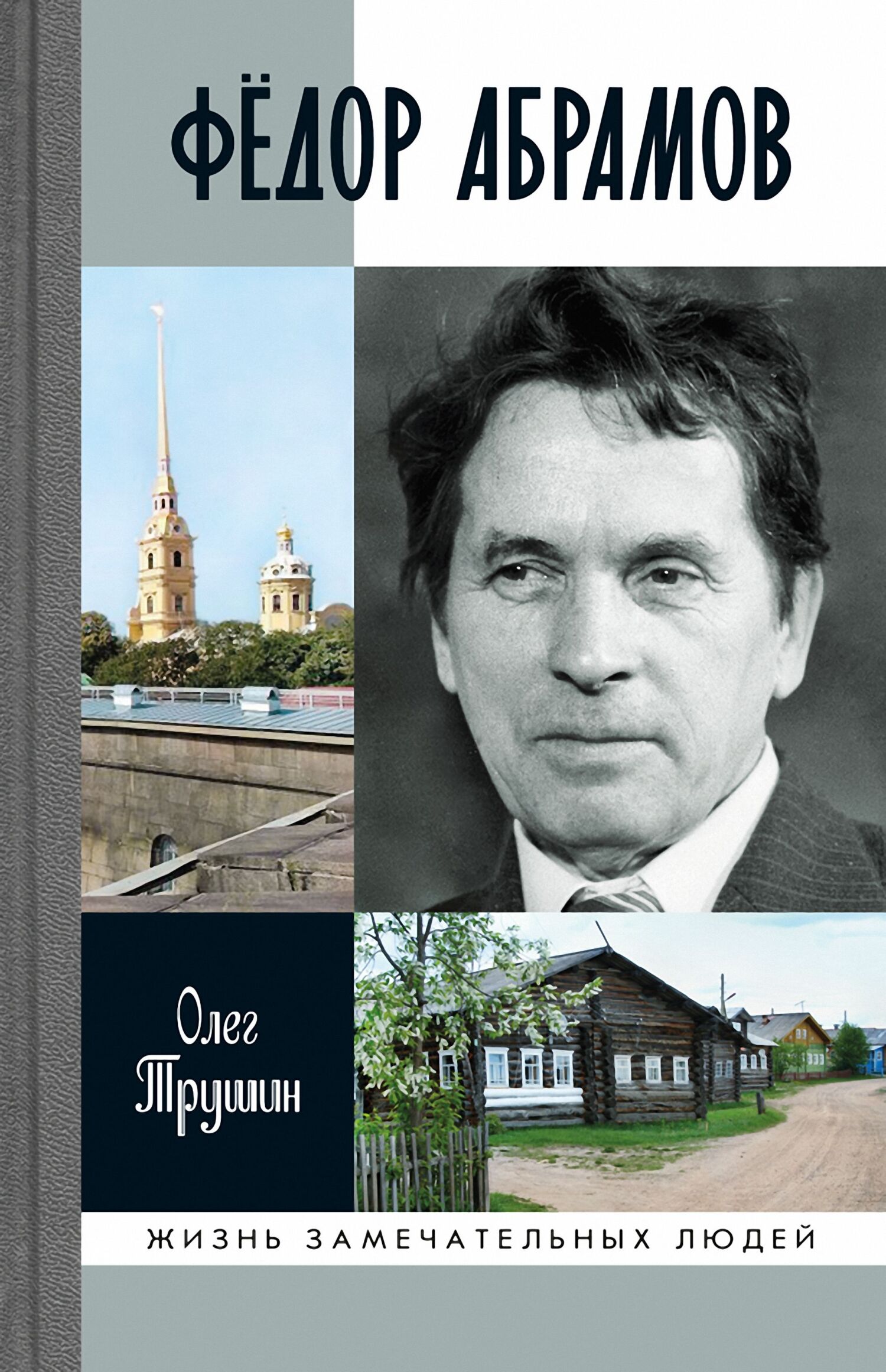Шрифт:
Закладка:
Нон-фикшн «Детский сеанс», возможно, первый пристальный взгляд на белорусское детское кино. Его история зрителям почти не известна, хотя белорусские детские фильмы – «Девочка ищет отца», «Бронзовая птица», «Приключения Буратино», «По секрету всему свету» и другие – полюбились нескольким поколениям детей и для многих стали драгоценностью, без которой невозможно представить детство. Восстанавливая истории постановок по архивным материалам и свидетельствам, разбирая сюжеты сценариев и фильмов, автор рассказывает о том, как возникло и росло советское и белорусское детское кино, каким оно изображало детский и взрослый мир, какие ценности и модели поведения предлагало зрителям. Это делает книгу "Детский сеанс" попыткой ответить на вопрос, какого зрителя вырастило советское и постсоветское детское кино и почему мы, зрители этих фильмов, видим мир так, а не иначе.