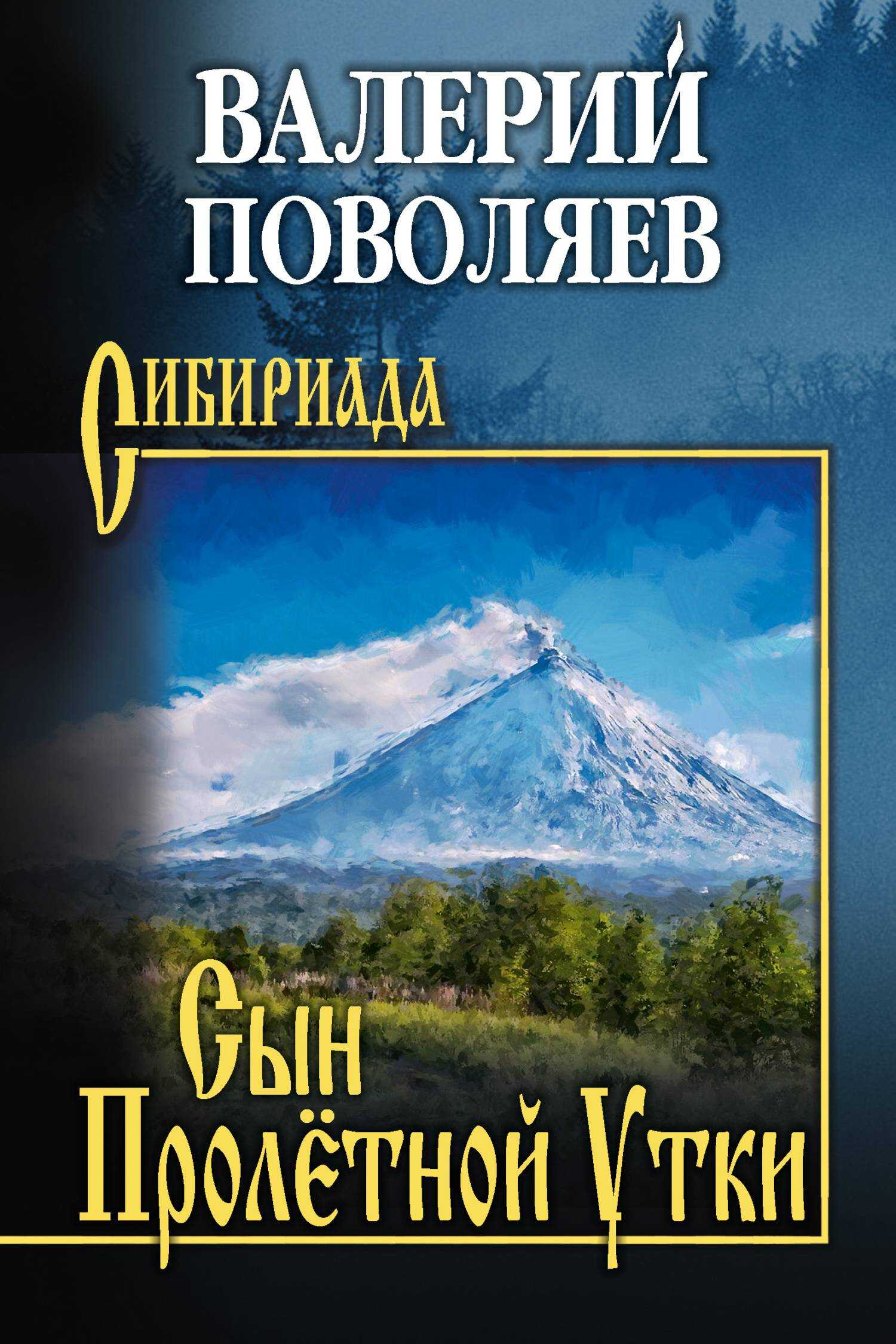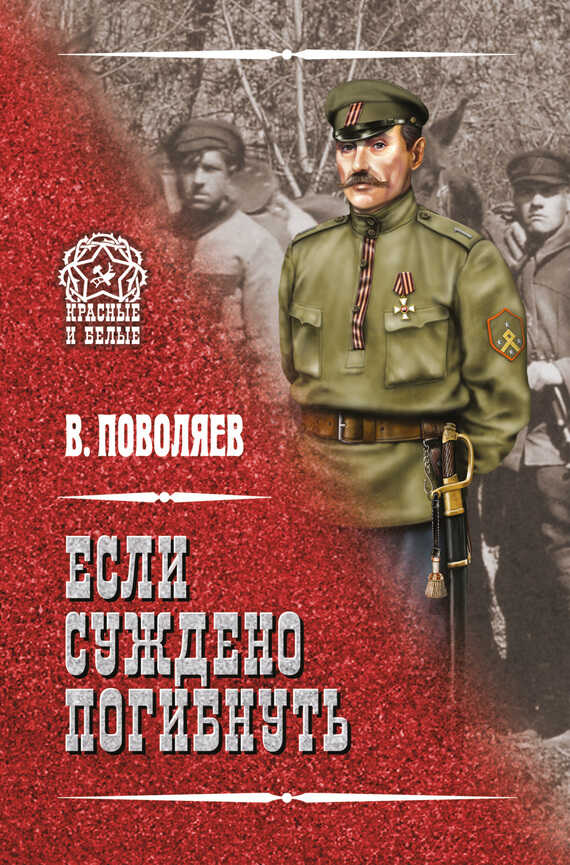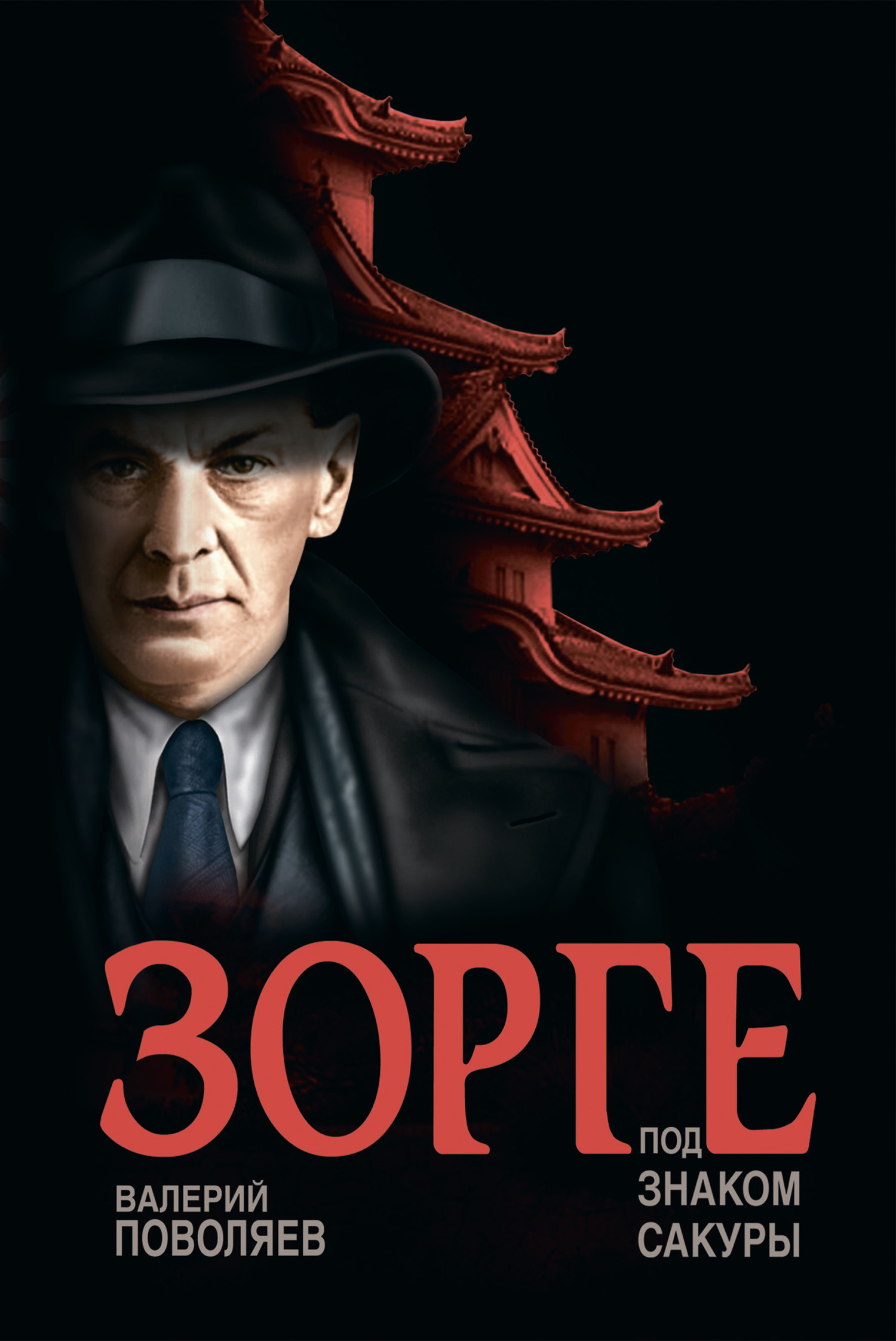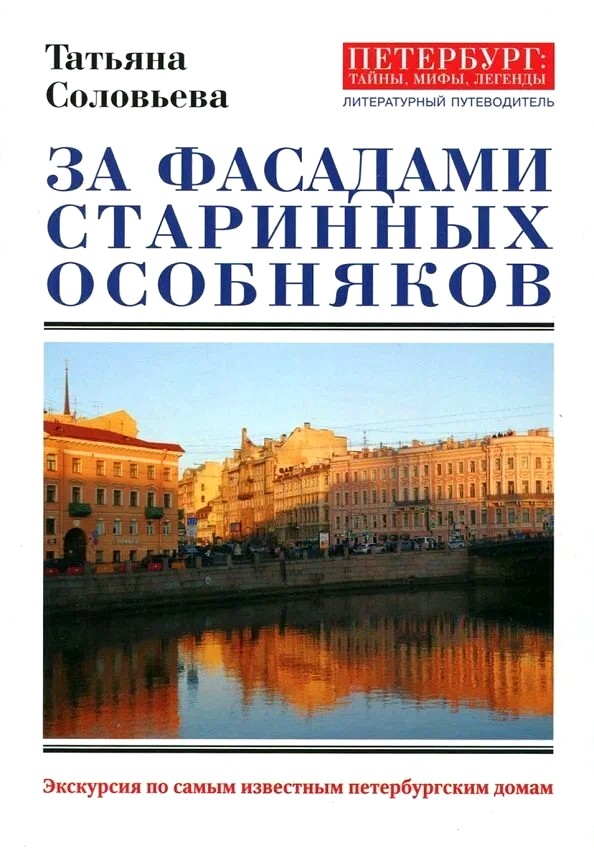Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Вопреки ожиданиям большевиков, установление советской власти на периферии Российской империи шло отнюдь не гладко.Поволжье, поначалу с энтузиазмом воспринявшее новый порядок, к весне 1918 года опомнилось и поднялось могучей волной сопротивления, в одночасье смывшей новоявленных хозяев. Бывшие офицеры-фронтовики царской армии быстро организовали во многих городах добровольческие «белые» отряды, начавшие успешное наступление на «красных». Один из таких отрядов волею судьбы возглавил подполковник В.О. Каппель, и с того дня его имя стало широко известным как имя умелого партизанского командира, наносящего раз за разом внезапные и сокрушительные удары…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Дмитриевич Поволяев»: