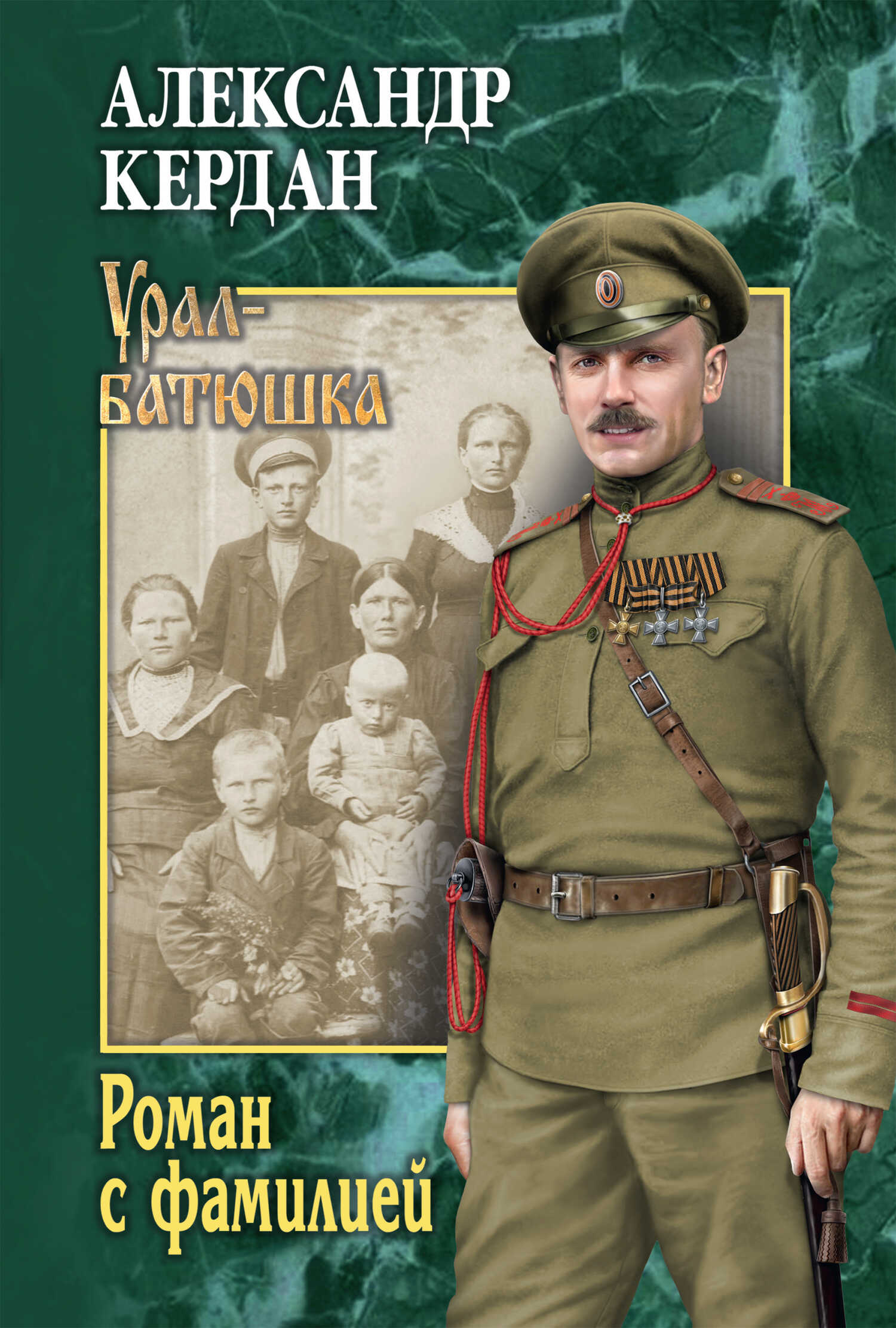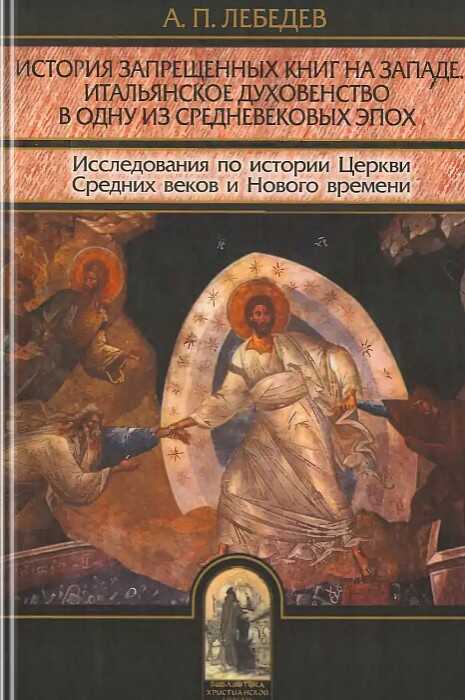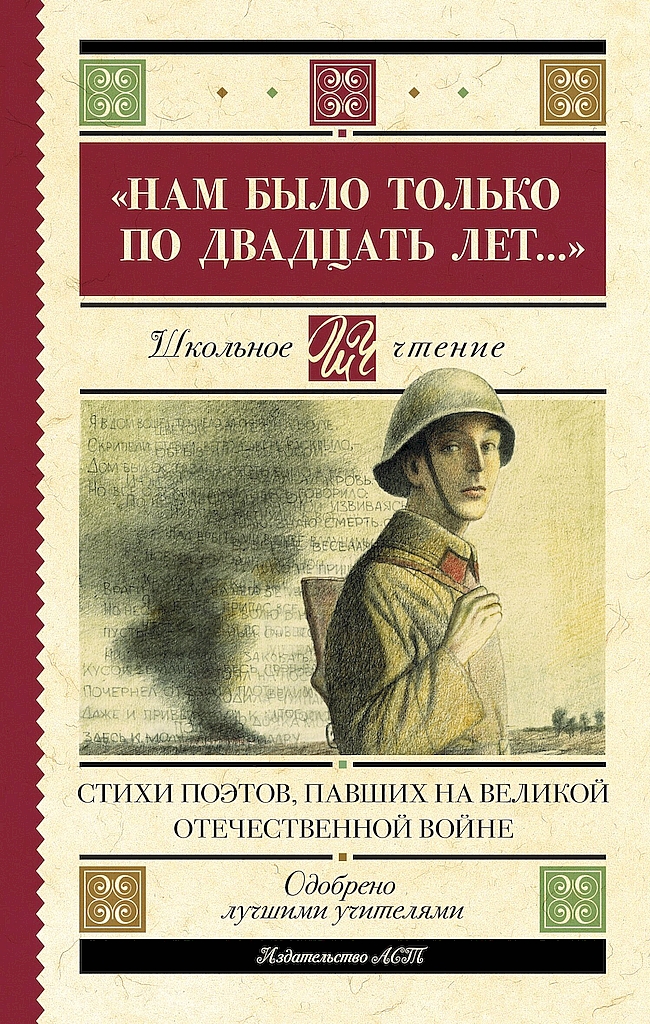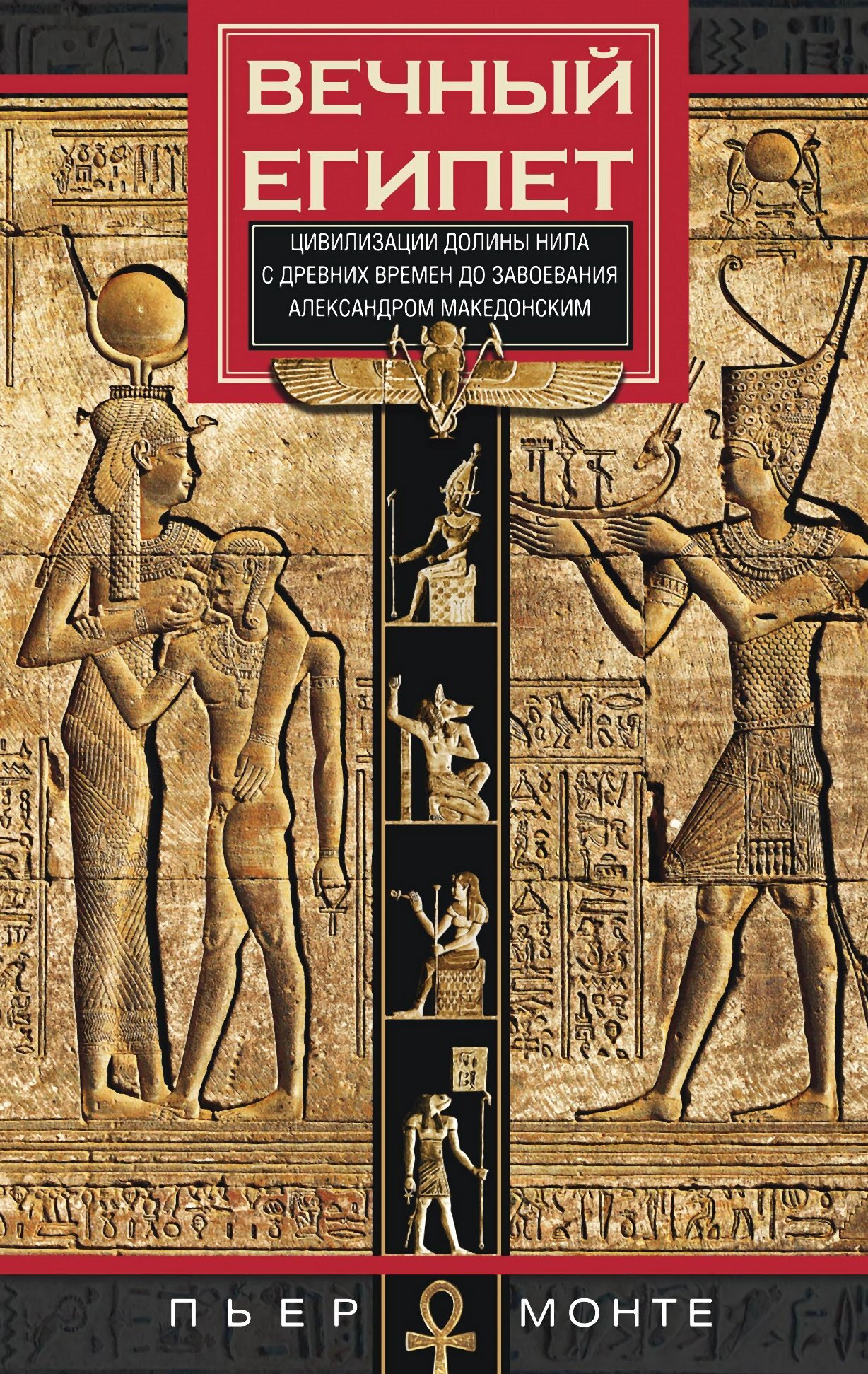Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В основу произведения известного уральского писателя Александра Кердана положена история одной из уральских семей, описанная с древних времен и до наших дней. Окунаясь в глубь веков и событий, писатель заглядывает то в Римскую империю I века до нашей эры, то в Испанию и Иерусалим эпохи Первого крестового похода, то на Украину времен Руины (XVII в.). Соединяя историю семьи с мировой историей, автор пытается постичь и осмыслить жизнь с позиций людей разных эпох, сформулировать вечные нравственные ценности человечества, такие как добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство, родина и чужбина, призвание и талант, смерть и бессмертие.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Борисович Кердан»: