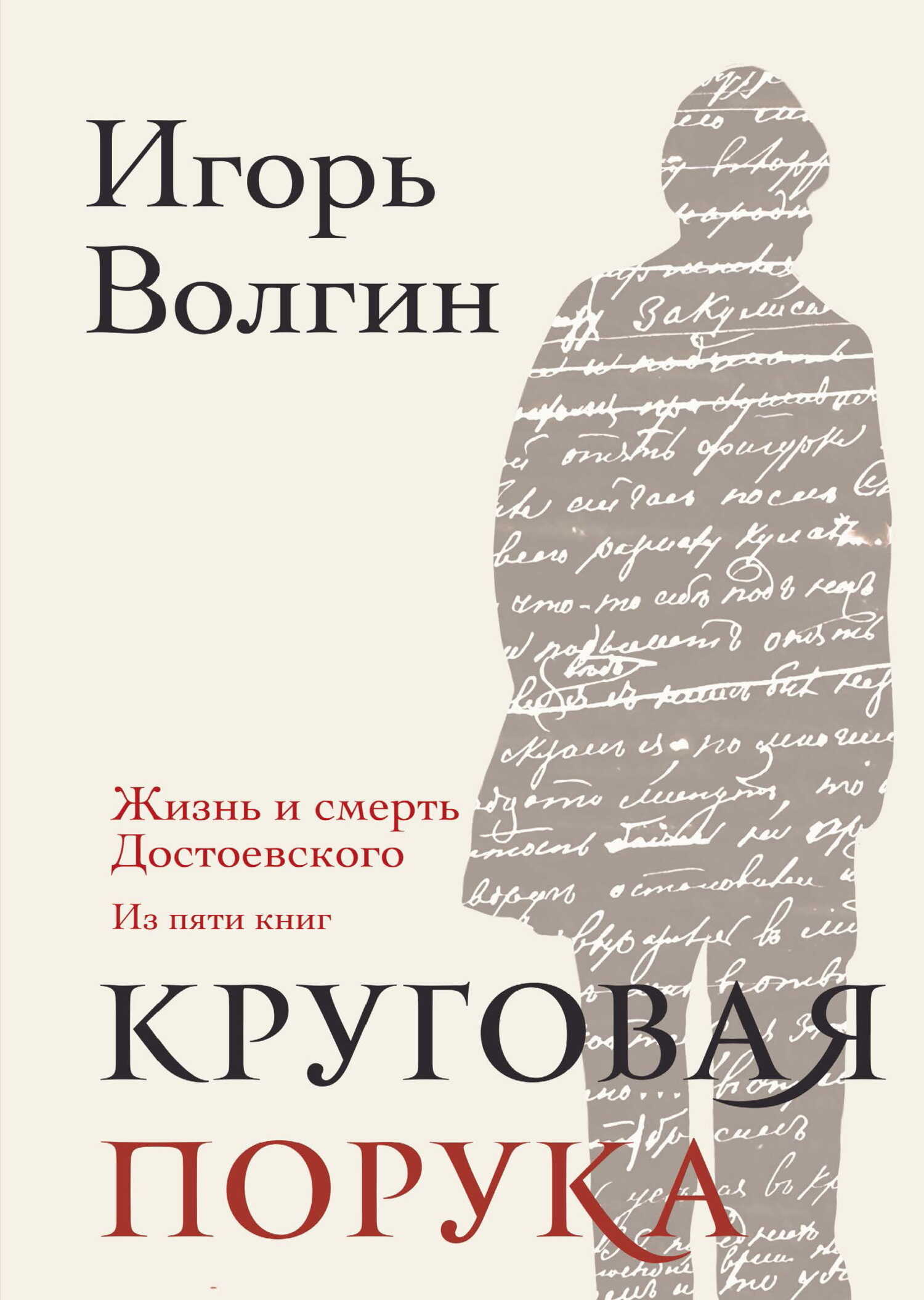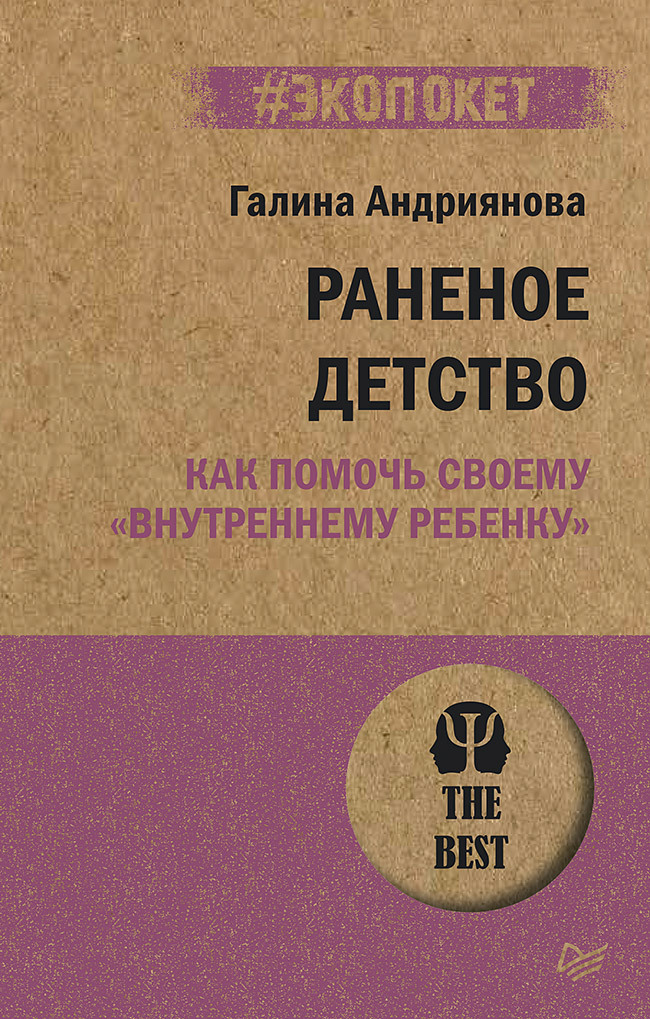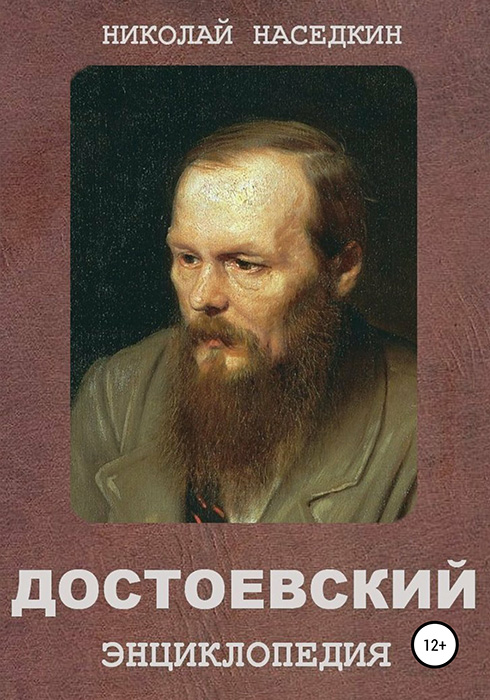Шрифт:
Закладка:
Достоевский полагал, что стремление русских людей отправиться добровольцами на Балканы свидетельствует о пробуждении национального самосознания. Высшая нравственная идея, одушевляющая нацию, способна, по его мнению, сплотить воедино все элементы разрозненного общественного организма.
«Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное, – пишет Достоевский. – Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство – есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас»[404].
По мнению автора «Дневника», именно эти новые обстоятельства способны «снять» противоречия, присущие русской действительности и обозначить новую эру общественной жизни: «Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, – все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве»[405].
Конечно, мысль о нравственном слиянии образованного общества с народом была достаточно утопичной. Однако не являлось ли подобное умонастроение следствием тех реальных процессов, свидетелем которых стал Достоевский?
Всеобщее сочувствие славянам действительно создавало некоторую иллюзию единства. И с этим вынуждены были считаться даже противники власти.
Очевидно, не случайно будущие революционеры – такие как А. И. Желябов, действовавший в пользу славян в Одессе, С. М. Степняк-Кравчинский, командовавший повстанческой батареей, или А. П. Прибылёва-Корба, перевозившая раненых, приняли самое активное участие в славянской борьбе. И бок о бок с ними сражались сотни других молодых людей, настроенных далеко не столь радикально. Это был цвет русской молодёжи. С другой стороны, как заметил Л. Н. Толстой, «выскочили вперёд и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные: главнокомандующие без армий, министры без министерства, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов»[406]. Славянский вопрос породил такую психологическую коллизию, когда одни и те же общественные действия диктовались порой совершенно различными побудительными мотивами. При этом оппозиционная печать подчас пользовалась такими же формулировками, которые не сходили с уст казённых патриотов.
Разумеется, Достоевский был не настолько наивен, чтобы полагать, будто бы переживаемые исторические обстоятельства положат конец всем нравственным и социальным антагонизмам русского общества. «Конечно, возможности нет представить себе, чтобы разрыв наш с народом был бы уже совершенно покончен и излечен, – писал автор “Дневника”, – он продолжается и будет долго еще продолжаться <…>». Но для Достоевского было важно другое. Трансформируя «текущее» в плоскость «идеального» и верно подмечая признаки парадоксальной исторической ситуации, он возводит эту ситуацию до уровня исторического откровения. И тут следует вернуться к вопросу: можно ли считать «идеологические ожидания» Достоевского вполне славянофильскими?
«Россия поступит честно…»
Рассматривая сложившуюся ситуацию, автор «Дневника» пишет в августе 1876 г.: «…Славянская идея, в высшем смысле её, перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчётливо в общем сознании, а в живом чувстве совпала с движением народным»[407]. Но если славянская идея стала народным достоянием, то как понимает её народ? И как понимает её сам Достоевский?
В 1876–1877 гг. славянофилы вовсе не полагали, что их идеи вдруг обрели всемирно-историческую значимость.
Они в лучшем случае пытались приспособить старые славянофильские доктрины к нынешнему моменту, сообщить определённое направление текущей правительственной политике, не ставя перед ней каких-либо нравственных «сверхзадач».
Но именно осуществление такой «сверхзадачи» и предполагала прежде всего этико-историческая концепция «Дневника писателя».
«<…> Что же такое эта славянская идея в высшем смысле её?» – спрашивает Достоевский.
<…> Это, прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и проч., – есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтоб, уравняв его с собою в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире[408].
Вот кредо «Дневника».
«Христова истина» – это для Достоевского не дежурная формула. Содержание, которое он вкладывает в это понятие, могло покоробить тех, кто полагал, что христианская этика прежде всего ставит во главу угла личное спасение.
Уже некоторые современники Достоевского высказывали сомнение в том, что его православие – канонично и ортодоксально: «Христос <…> ставил милосердие или доброту – личным идеалом, он не обещал нигде торжества поголовного братства на земном шаре…»[409] И хотя К. Леонтьев дарит «Дневник писателя» эпитетом «восхитительный», у него имелись серьёзные основания упрекать его автора в отступлении от канонов «отеческой веры». И прежде всего – в стремлении к земному счастью, неприемлемому, с точки зрения Леонтьева, для официального православия. (Вспомним рассуждения старца Зосимы о том, что жизнь есть рай.) «Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство г. Достоевским, – писал автор “Византийства и славянства”, – есть новшество по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей!»[410]
С другой стороны, нравственного критерия Достоевского никак не выдерживала своекорыстная и абсолютно эгоистическая политика тех государств Европы, которые предпочитали наблюдать за балканской трагедией из своего «прекрасного далёка».
«…[В]оля ваша, – писал Достоевский, – это как-то режет ум пополам. Что-то есть тут такое, с чем никак нельзя согласиться. <…> Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти <…> Да и практические ли только выгоды, текущие ли только барыши составляют настоящую выгоду нации, а потому и “высшую” её политику, в противоположность всей этой “шиллеровщине” чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос»[411]. Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб её интересам (а на деле никогда не в ущерб)?»[412]
Сиюминутной выгоде, погоне за «торопливым барышом» Достоевский противопоставляет совсем иные этические требования. Нравственный закон, которым должна руководствоваться отдельная личность, Достоевский распространяет на такое сложное образование, как государство. И если нарушение норм личной нравственности приводит Раскольникова и Ивана Карамазова к тяжёлой душевной драме, то безнравственное мировое поведение великой державы чревато для неё не менее грозными последствиями.
«…[П]олитика чести и бескорыстия, – пишет автор “Дневника”, – есть не только высшая, но, может быть, и самая выгодная политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и насущной выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а