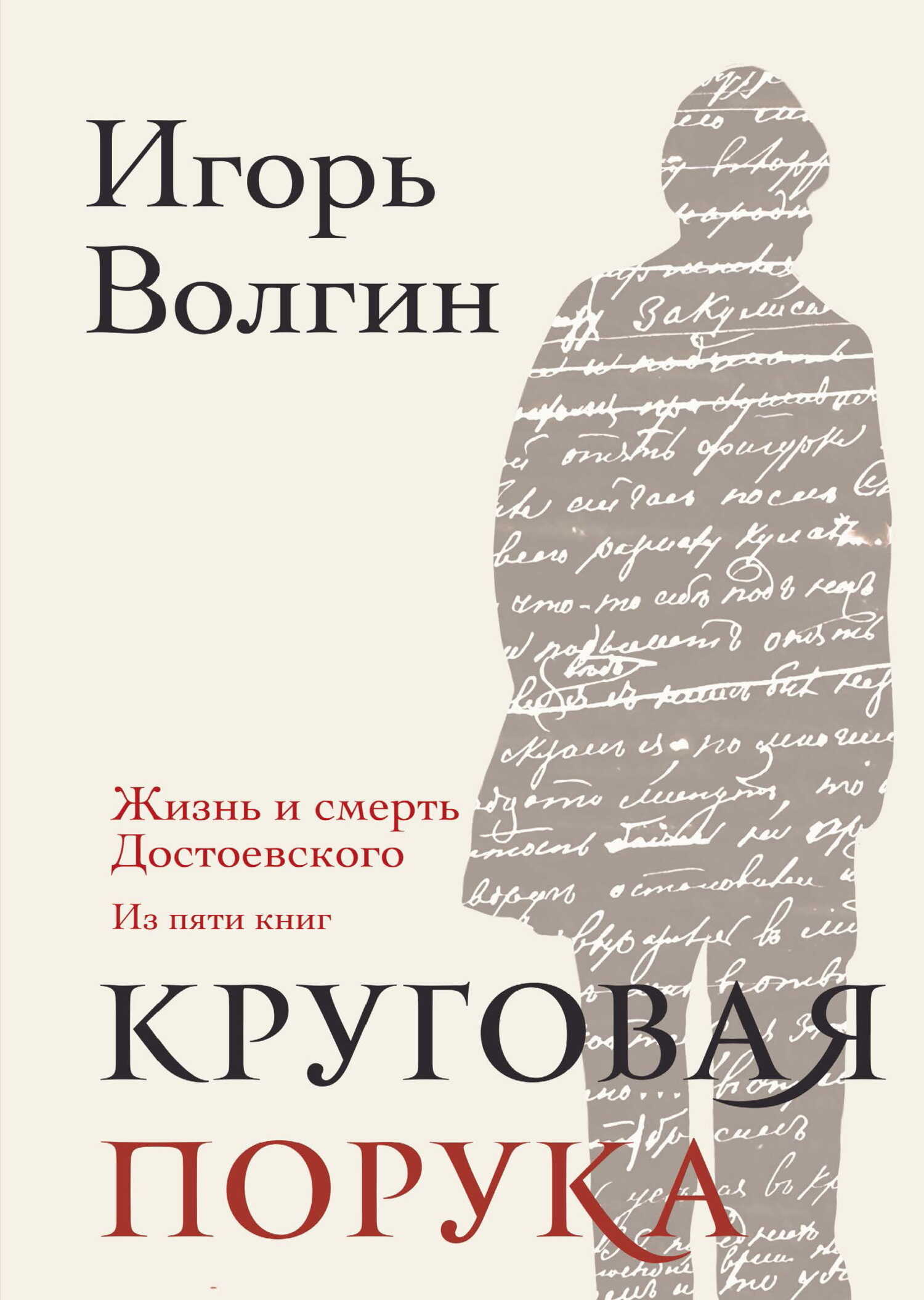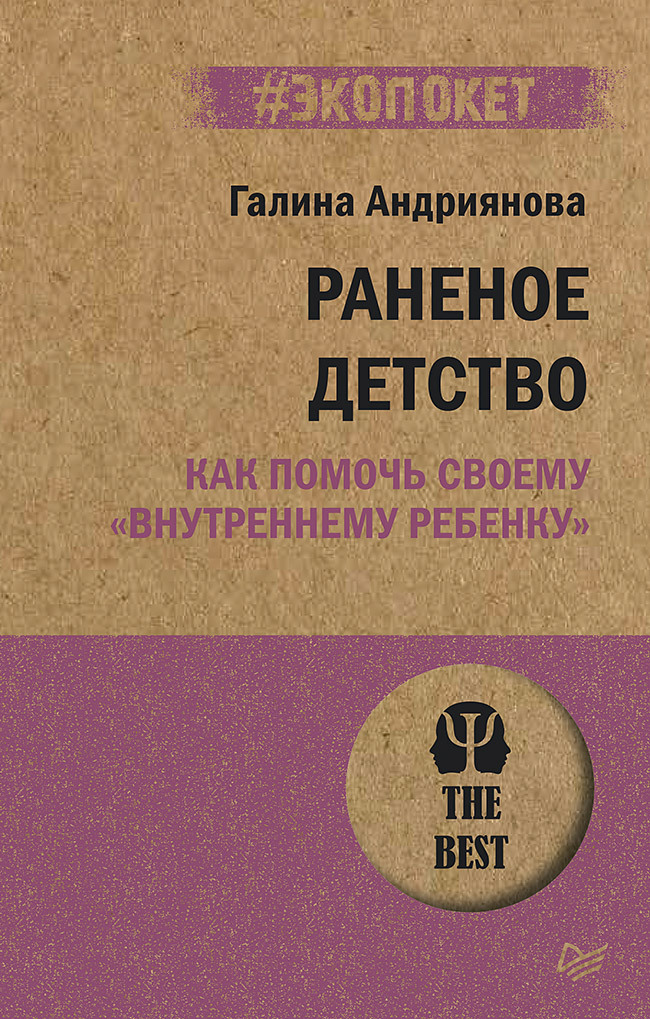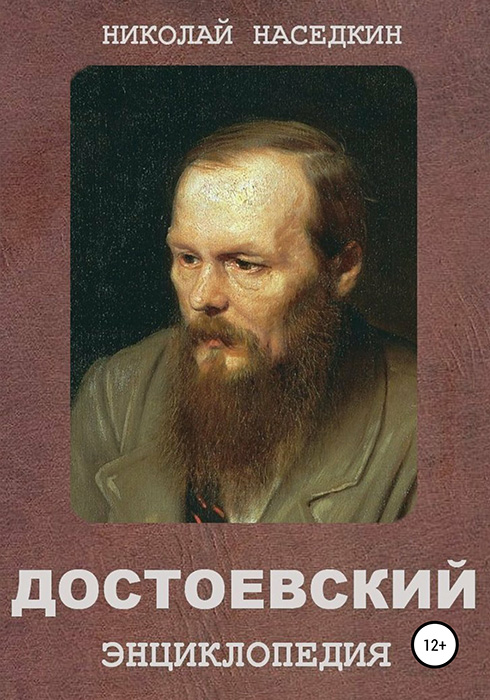Шрифт:
Закладка:
Итак, весной и летом 1876 г. правительственные круги предпочитали сохранять в славянском вопросе известную сдержанность.
Теперь посмотрим, правы ли те исследователи, которые склонны отождествлять официальную политику царского правительства с идейной программой Достоевского.
Чёрные трупы на крестах
«Теперешний мир, – пишет автор “Дневника” в апреле 1876 г., – всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять»[378].
«Если Бог пошлёт славянам успех, то до какого предела в успехе допустит их Европа? – спрашивал Достоевский. – Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой? Последнее очень трудно предположить. Не решат ли, напротив, после нового и торжественного консилиума, опять лечить его?..»[379]
Летом 1876 г. дипломатам пришлось немало поработать: министры составляли ноты, императоры встречались в Рейхштадте, развязка, естественная в данных условиях, отдалялась.
Негативное отношение к дипломатическому торгу вокруг восточного вопроса вовсе не было присуще одним славянофилам. Вот что писал в «Отечественных записках» Н. К. Михайловский: «Мы находимся или накануне великого исторического события, если славянам удастся протискаться на свободу сквозь сеть дипломатических тонкостей и гнилые путы турецкого владычества, или же накануне одной из позорнейших страниц истории человечества, если и теперь “больной человек” останется владыкой людей здоровых»[380].
Идея освобождения славян с помощью России не была исключительно славянофильской. Еще в 1867 г. А. И. Герцен писал в «Колоколе»: «Может, и правительство наше <…> вспомнит, что есть ещё несчастные славяне, их соотчичи, разоряемые беспорядком, задавленные немцами, расстреливаемые генералитетом, и созовёт их на общую думу вместе погоревать, потужить да посоветоваться сообща, как горю пособить»[381].
В связи с этой статьей М. А. Бакунин адресовал Герцену упрёк в том, что последний как будто завидует «настоящей деятельности Аксакова, Самарина et comp<anie>»[382].
«Никогда Герцен не мог сойти за панслависта в духе императора Николая и профессора Погодина, – писал Огарёв, – и я вижу глубокое различие между панславизмом и освобождением славянских народов, ибо панславизм – только филологическая фантазия, тогда как освобождение из-под турецко-австро-мадьярского гнёта становится исторической необходимостью и требованием гуманности»[383].
Огарёв подчеркивает, что для России не может быть безразлично будущее славянского мира[384].
Таким образом, даже убеждённые противники власти вполне допускали использование государственной мощи царской России в качестве внешней силы, объективно способствующей делу национального освобождения. Недаром, заканчивая свой ответ Бакунину, Огарёв замечает: «Но ты не можешь не видеть, что рано или поздно Россия и только Россия придёт на помощь освобождению славян. Это стремление – историческое тяготение, от которого так же невозможно уйти, как от земного тяготения»[385].
Эту закономерность осознавали не только русские публицисты. О ней писали некоторые мыслители и на Западе.
«В чем состоит status quo? – спрашивал Энгельс. – Для христианских подданных Порты это означает просто увековечение их угнетения Турцией. И пока они остаются под игом турецкого владычества, они будут видеть в главе греко-православной церкви, в повелителе 60 миллионов православных, своего естественного освободителя и покровителя»[386].
Но если, например, для противников самодержавия государство было лишь орудием исторической необходимости, то Достоевский искренне полагал, что монархическая Россия вполне сознательно способна выполнить свою освободительную миссию.
Исчерпывалось ли, однако, таким подходом отношение автора «Дневника» к восточному вопросу?
В июньском «Дневнике» за 1876 г. Достоевский в полном соответствии со славянофильской традицией пишет о единении всего славянства «под крылом России». «И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий…»[387]
Через год, когда русские войска уже вступят на Балканы, автор «Дневника» заметит: «О да, да, конечно – мы не только ничего не захватим у них, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием), – тем самым и получим наконец возможность не обнажать меча…»[388]
Итак, Россия призвана освободить славян. В этом Достоевский сходится с «партией» Ивана Аксакова. Как, впрочем, и с Огарёвым. Но какими мотивами должна при этом руководствоваться Россия?
В одном из выпусков своего «Дневника» Достоевский поминает недобрым словом тогдашнего руководителя английской внешней политики лорда Биконсфильда (Дизраэли): «Что же, – подумает Биконсфильд, – эти чёрные трупы на этих крестах… гм… оно, конечно… (речь идет о турецких зверствах в Болгарии. – И. В.) А впрочем, “государство не частное лицо; ему нельзя из чувствительности жертвовать своими интересами, тем более, что в политических делах самоё великодушие никогда не бывает бескорыстное”. – Удивительно, какие прекрасные бывают изречения, – думает Биконсфильд, – освежающие даже, и главное, так складно. В самом деле, ведь государство… А я лучше, однако же, лягу…»[389]
Мы подошли к одному из стержневых моментов мировоззрения Достоевского. Речь идет о неделимости морали. Нравственность не подразумевает множественности альтернатив. Рассуждения лорда Биконсфильда – дань британскому (в данном случае «общеевропейскому») ханжеству. «Нет, – “отвечает” Достоевский, – надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить»[390]. Эту мысль автор «Дневника» отстаивает с чрезвычайной последовательностью и упорством: «…Выступают политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы – это одно, а нравственность государства – другое. А стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица – подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости!»[391]
Но ведь по сути дела подобный вопрос стоял перед Родионом Раскольниковым: можно ли в иных случаях «преступить», обязана ли уверенная в себе сила руководствоваться тем же нравственным кодексом, что и «тварь дрожащая»?
Вывод, который делает автор «Дневника писателя», на первый взгляд, чрезвычайно прост: «Что правда для человека как лица, то пусть остаётся правдой и для всей нации»[392].
Этика Достоевского не терпит раздвоенности: совесть, как и мораль, неделимы. Попробуем с этой точки зрения рассмотреть отношение Достоевского к насилию.
Насилие – не тот метод, который мог бы рекомендовать Достоевский для разрешения личных и общественных недоумений.
Действует ли, однако, этот принцип безоговорочно, при любых исторических обстоятельствах?
Можно ли убивать турку?
Летом 1877 г. русские войска перешли Дунай. И какими бы мотивами ни руководствовалось петербургское правительство, решившись на эту войну (причём решившись под давлением, крайне неохотно), русские солдаты несли балканским народам желанную свободу.
Достоевский пишет в апрельском «Дневнике»: «Подвиг самопожертвования кровью своею