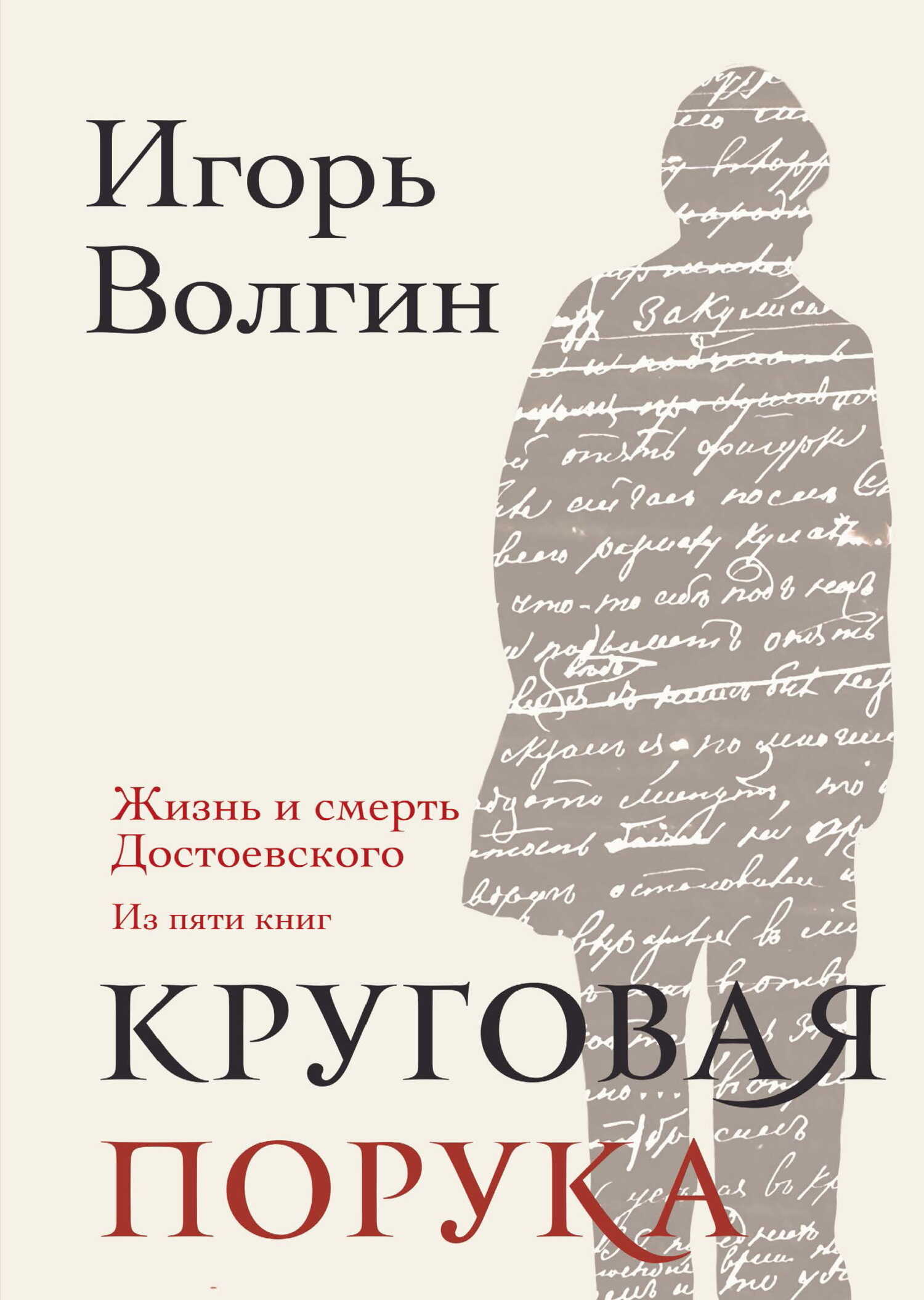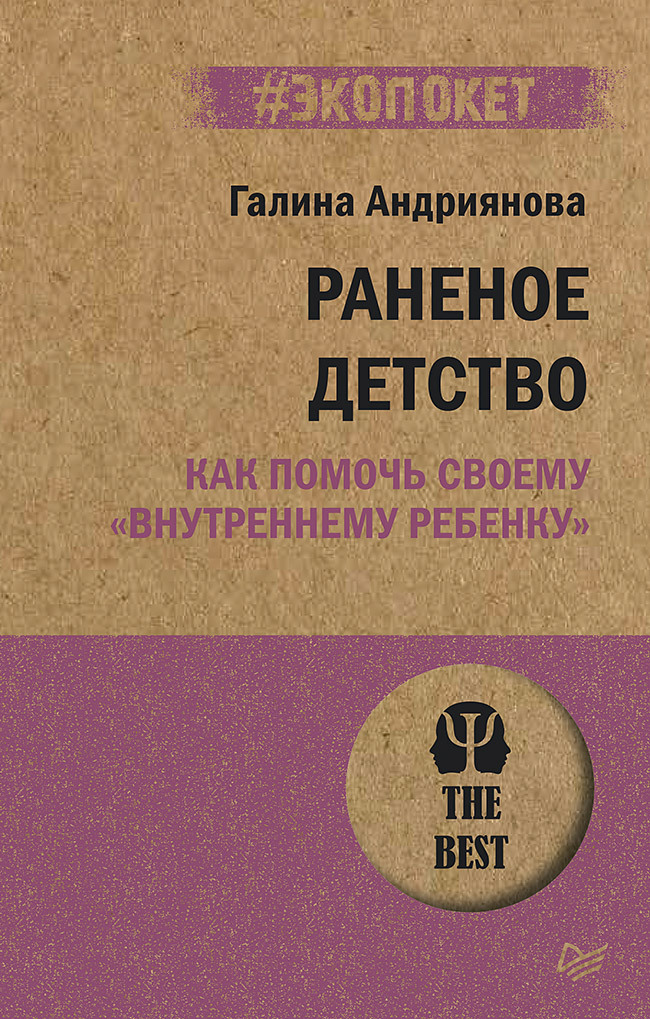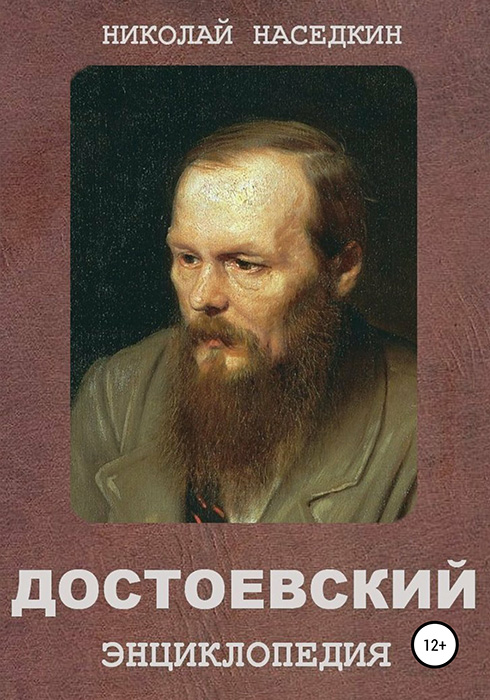Шрифт:
Закладка:
Милостивый государь Фёдор Михайлович!
12 января я послал на ваше имя 2 р. 50 к., прося Вас выслать мне ваше издание «Дневник писателя»; из газет я узнал, что 1 нумер вышел 1‑го февраля; меж тем я ещё не получил его!
Не знаю, как для Вас, – а для меня подобный образ отношений к подписчикам кажется более чем оригинальным!
Если Вы вздумаете когда-нибудь выслать мне ваше издание – прошу адресовать: г. Новохоперск, врачу при городской земской больнице, В. В. К-ну.
Г. Новохоперск, 25.11.1877 В. К-н[369].
Тут же Достоевский помещает свой ответ, с подчёркнутой безличностью названный «ответом редакции». Объяснив причины задержки (потери номеров на почте), автор «Дневника» заключал: «…Вы, милостивый государь, изо всех предположений: почему мог не дойти к Вам номер, – выбрали не колеблясь одно, именно обман со стороны редакции.
<…> Вследствие чего редакция спешит выслать Вам Ваши 2 р. 50 коп. обратно и просит уже более её не беспокоить. Принуждена же сделать это из понятного и естественного побуждения, которому Вы, милостивый государь, вероятно не удивитесь»[370].
Инцидент, казалось бы, исчерпан. Во всяком случае, на страницах «Дневника» мы больше не встретим об этом ни слова.
Однако переписка «редакции» с врачом из Новохоперска имела свое продолжение.
В архиве Достоевского мы находим следующее письмо:
Многоуважаемый государь Фёдор Михайлович. Прочитав февральский выпуск «Дневника», я был тронут до глубины души Вашей проповедью о христианской любви и смирении. Сознаюсь, многое указали Ваши строки и невольно заставили задуматься и заглянуть в себя, даже скажу больше, когда я прочёл в конце следующие слова: «А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага», – у меня при всей моей греховности пробила слеза умиления.
Но, увы! Перевернув страницу, я случайно увидел Ваш ответ на письмо доктора из Новохоперска, то невольно подумал, как часто бывает слово далеко от дела, даже у таких последовательных мыслителей, как Вы, Фёдор Михайлович!
Из Вашего ответа ясно видно, что Вы забыли и «самообладание» и «самоодоление» и с глубокой тонкостью посрамили своего «ближнего» перед целым городком, где всякий промах собрата делается общим достоянием для смеха и пересудов.
Я указал факт, который меня поразил своим противоречием, и далее предоставляю судить Вам, как специалисту в деле человеческих чувств и мыслей… Не желая отдавать своё христианское имя на посмеяние, подобно доктору из Новохоперска, фамилии подписать не решаюсь, – если тут недоверие, то оно порождено Вами. Остаюсь почитатель вашего таланта
NN.
Апрель 7 дня, Москва 1877[371].
Достоевский сделал на этом письме энергичную помету: «За доктора. Аноним. Отвечать в газете».
Он не ответил – ни в газете, ни в «Дневнике». Да и что он мог ответить? Читатели только «указали на факт», но сам этот факт таил в себе горькую насмешку. Автор «Дневника», столь горячо призвавший «исполнить на себе» мировую преобразовательную задачу, тут же нарушал свой нравственный призыв. Ибо не мог (не знал, как) «перевернуть страницу».
Позитивный идеал «Дневника писателя» не удавалось осуществить даже на микросоциальном уровне. Он оставался «песней».
Из главы 7
Что же есть истина?
Восточный вопрос в «Дневнике писателя»
«Выход в полноту истории…»
Весной 1875 г. вспыхнуло славянское восстание в Герцеговине, летом того же года оно охватило Боснию; весна 1876 г. ознаменовалась резнёй, учинённой турками над мирным населением Болгарии; вслед за этим маленькая Сербия объявила войну Блистательной Порте; наконец, 12 апреля 1877 г. выступила Россия: русские войска перешли Дунай.
«Вечный» восточный вопрос вступил в новую критическую фазу.
Кульминация восточного кризиса совпала по времени с периодом, быть может, наиболее активной журналистской деятельности Достоевского.
В идеологическом комплексе «Дневника писателя» восточный вопрос занимает особое место. Это тот идейно-композиционный стержень, который пронизывает большинство выпусков «Дневника» и вокруг которого в той или иной степени группируются почти все остальные части издания.
Чем объяснить это обстоятельство?
Восточный вопрос заключал для Достоевского ни с чем не сравнимую глобальную значимость
«Одним словом, – писал автор “Дневника”, – этот страшный Восточный вопрос – это чуть не вся судьба наша в будущем. В нём заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории»[372].
Никто из современников Достоевского не ставил вопрос таким образом и в таком объёме.
Какой же именно аспект восточного вопроса наиболее глубоко преломлялся в сознании Достоевского?
Это – реализация исторического предназначения славянства в мировом историческом процессе, это «идея славянская… идея… судеб человеческих и Европы»[373]. Автор «Дневника» как бы сопрягает факты текущей действительности с «мировой гармонией», с «конечными» мировыми целями.
Либеральная критика упорно подчёркивала реакционные стороны «Дневника писателя», акцентируя внимание на «агрессивности» его внешнеполитических тенденций.
Некоторые исследователи склонны даже ставить знак равенства между взглядами Достоевского на славянский вопрос и «восточной» политикой царского правительства.
Не менее живуча и другая точка зрения, согласно которой позиция Достоевского в славянском вопросе не выделяется из общей достаточно аморфной программы поздних славянофилов и нередко отождествляется с последней. Говоря о его публицистике, как правило, подчёркивают скандальность отдельных положений («Константинополь должен быть наш» и т. д.) – без их всестороннего анализа, вне связи с целым.
Правда, никто не ставит под сомнение искренность Достоевского и его сочувствие борьбе славянских народов. Но подобное сочувствие было в 1876–1877 гг. характерно для самых различных кругов русского общества.
Слов нет, Достоевский воспринял многие существенные стороны славянофильской доктрины и нередко опирался на неё в своих рассуждениях. Терминология его статей нередко соответствует канонам славянофильской школы. Но посмотрим внимательнее.
Реальная политическая обстановка весной и летом 1876 г. складывалась таким образом, что речь могла идти либо о решительном освобождении балканских народов из-под гнета Оттоманской империи, либо об увековечении турецкого владычества.
Между тем западная дипломатия всячески стремилась оттянуть развязку, утопить восточный вопрос в бесконечных и бесплодных переговорах, пойти на сделку с Турцией за счёт её восставших подданных. Достоевский, писавший свои романы «руками, дрожащими от гнева», великий ходатай за всех униженных и оскорблённых, остаётся верен себе и в своем «Дневнике». С величайшим негодованием, с глубокой личной болью говорит писатель о равнодушии к борьбе славян, о невозмутимости официальной Европы, которая ждёт, «когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли – Европе досаждающие, её тревожащие»[374].
Но и правящие круги России не спешили ввязываться в грозящие непредвиденными осложнениями балканские дела. А. А. Краевский писал А. Д. Градовскому: «У нас о войне не хотят слышать и собираются преследовать карами эту мысль в печати. Мне удалось слышать такое изречение от лиц, собственноушно слышавших его: “Я изо всех сил стараюсь улаживать мирное разрешение дела, а печать хочет меня поссорить с Европою; это нельзя допустить”».
Александр II, прочитавший приведённое письмо в перлюстрации, не замедлил засвидетельствовать истинность изложения Краевским его монарших намерений. «Весьма здравые мысли, – начертал император, – и совершенно согласные с моими»[375].
Даже такой близкий к придворным сферам публицист, как князь В. Мещерский, толкует о «ненависти высшего петербургского общества