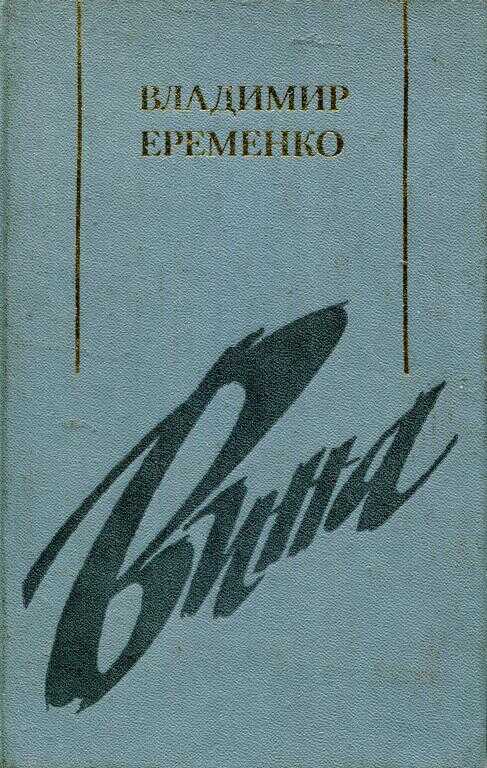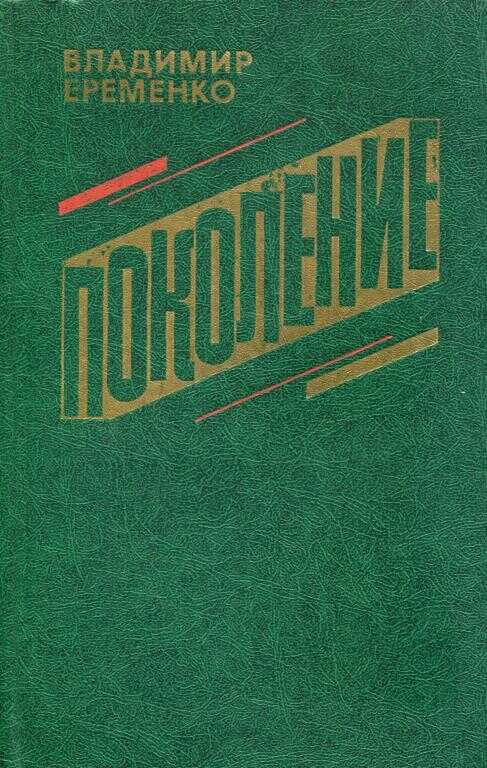Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу Владимира Еременко, автора романа «Поколение», вошли роман «Вина», повести «День как год». «Фронтовики», рассказы о детях войны. Все эти произведения в основном посвящены бывшим фронтовикам, испытавшим и горечь поражений, и радость побед, ратным и трудовым подвигам советских людей в годы войны и в мирное время.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Николаевич Ерёменко»: