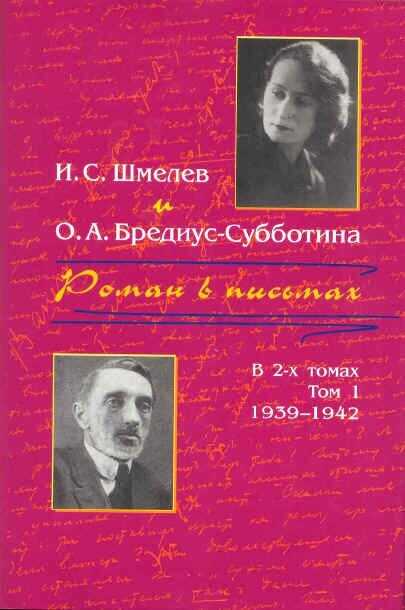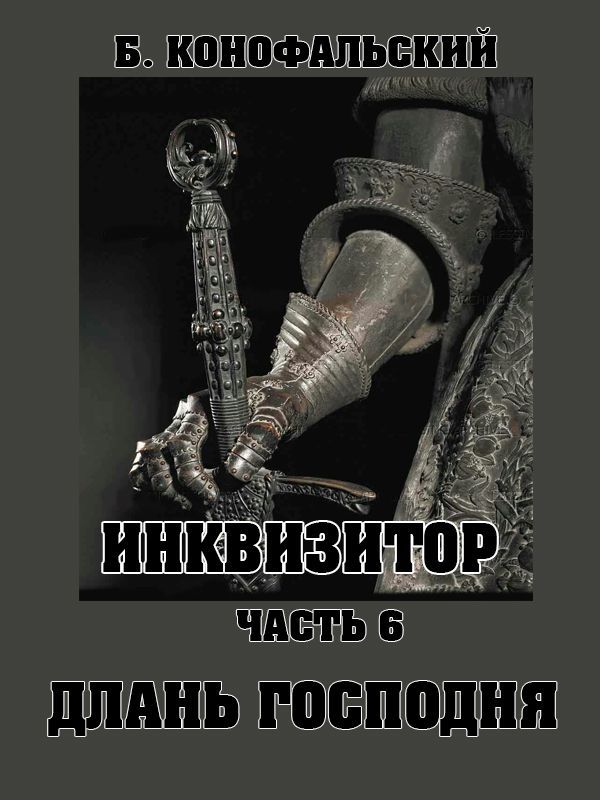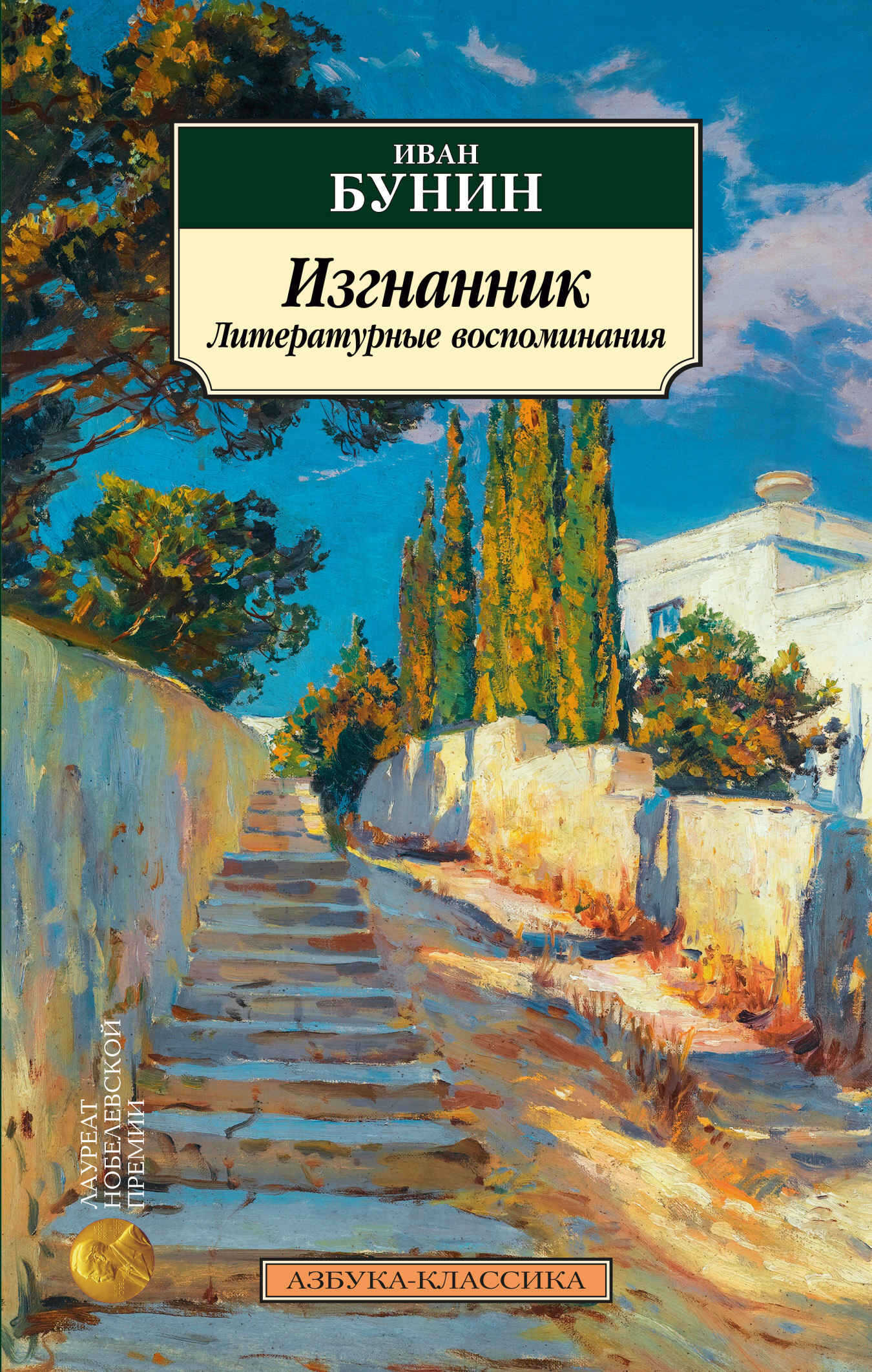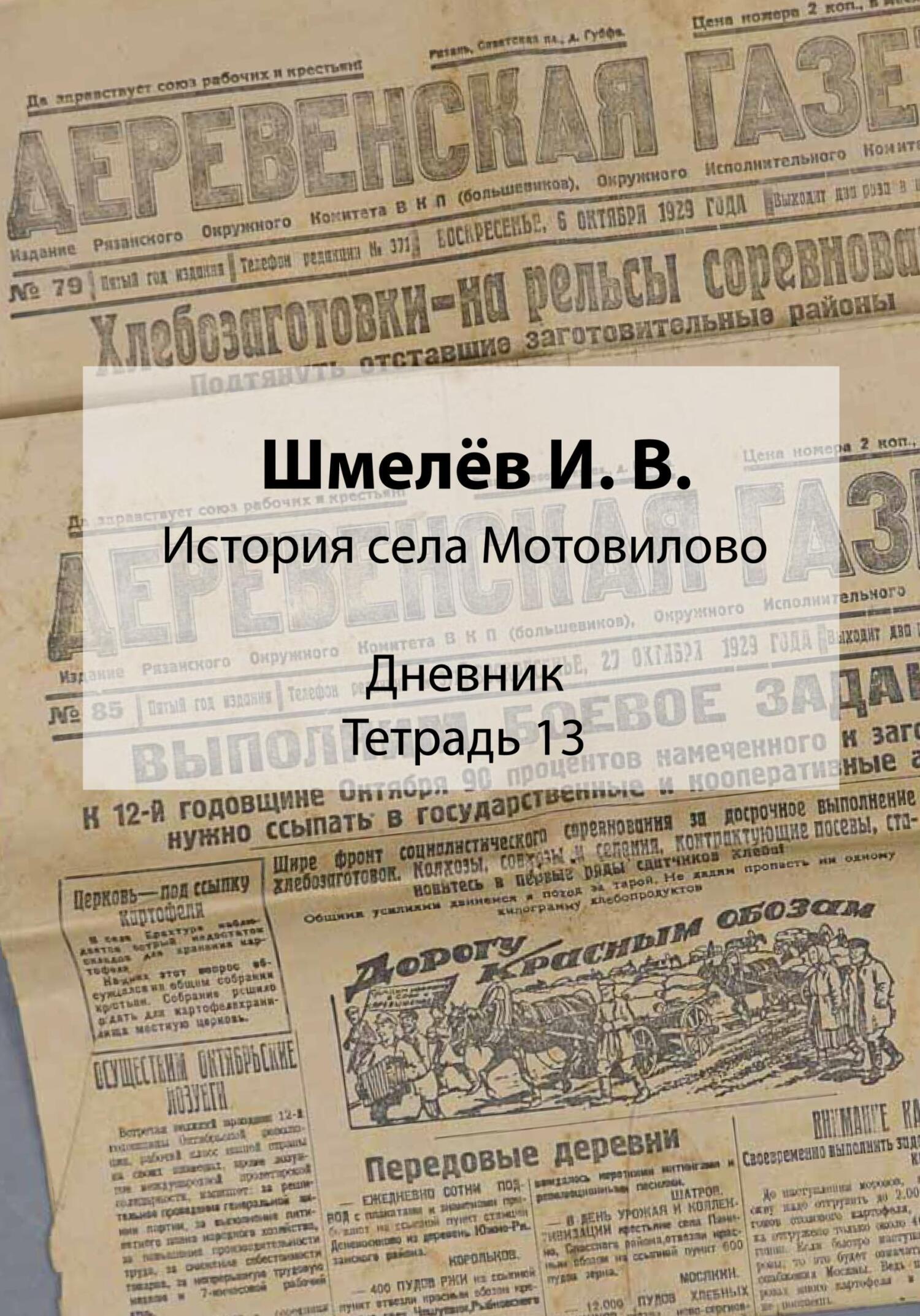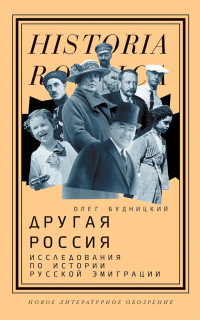Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Роман в письмах» — собрание писем И. С. Шмелева (1873–1950) и О. А. Бредиус-Субботиной (1904–1959), которое сам писатель считал своим последним художественным произведением. Любовная лирика сочетается с воспоминаниями, размышлениями о России, православии, писательстве, планами и фрагментами неопубликованных произведений. В 1-й том включены письма 1939–1942 гг.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Сергеевич Шмелев»: