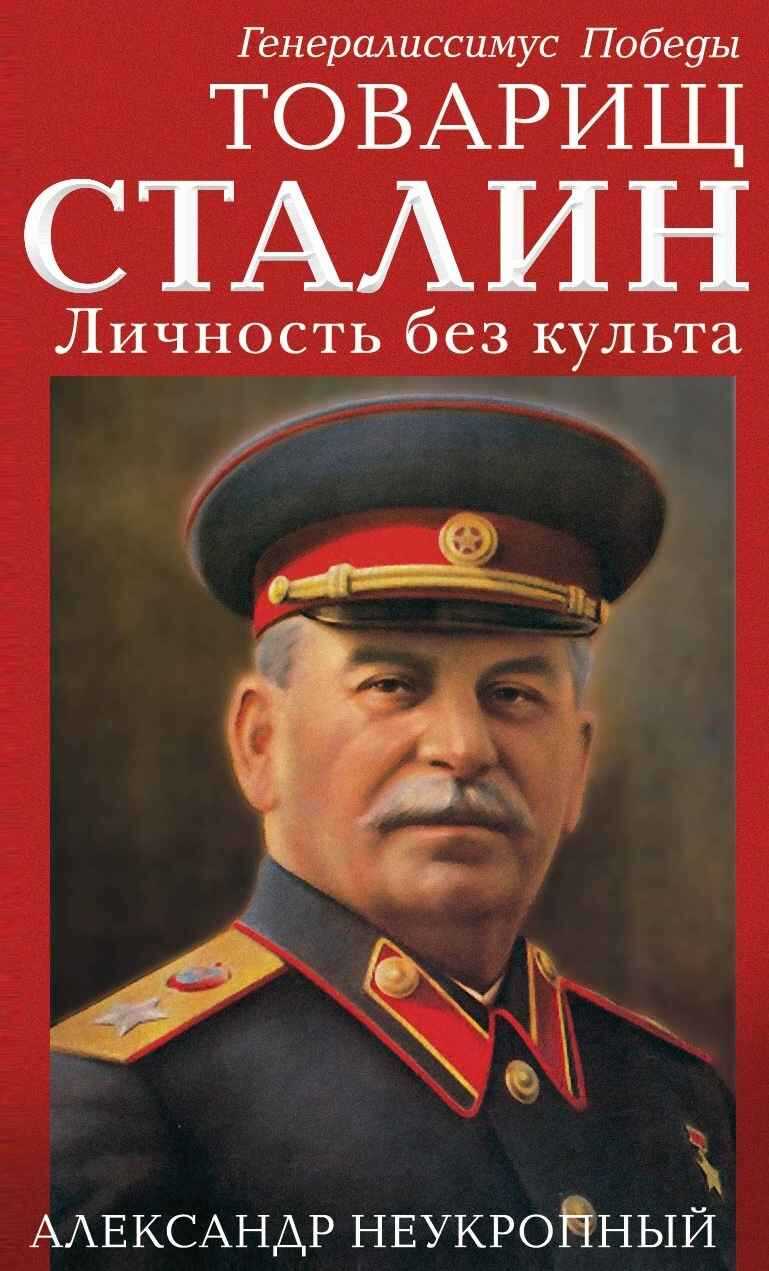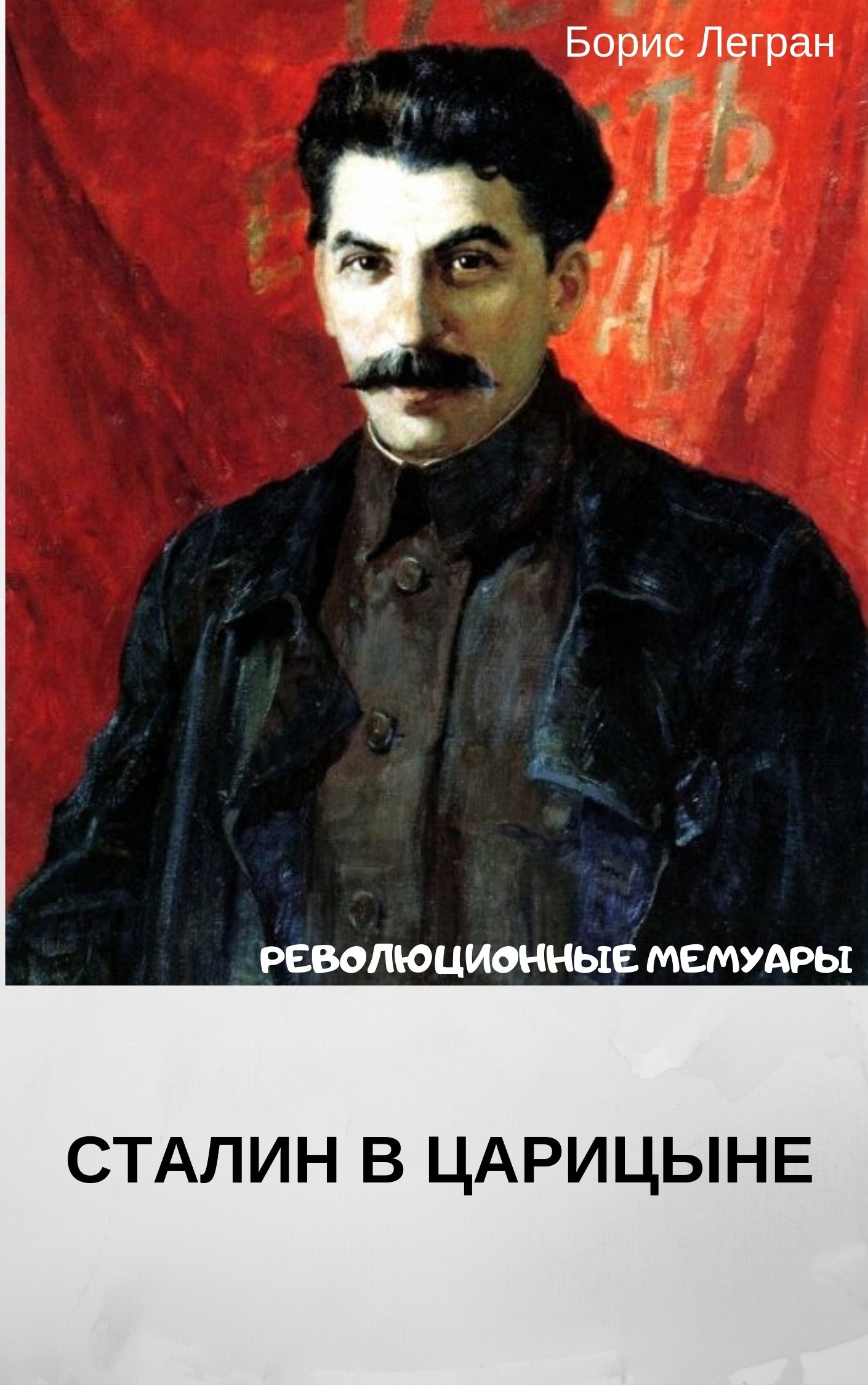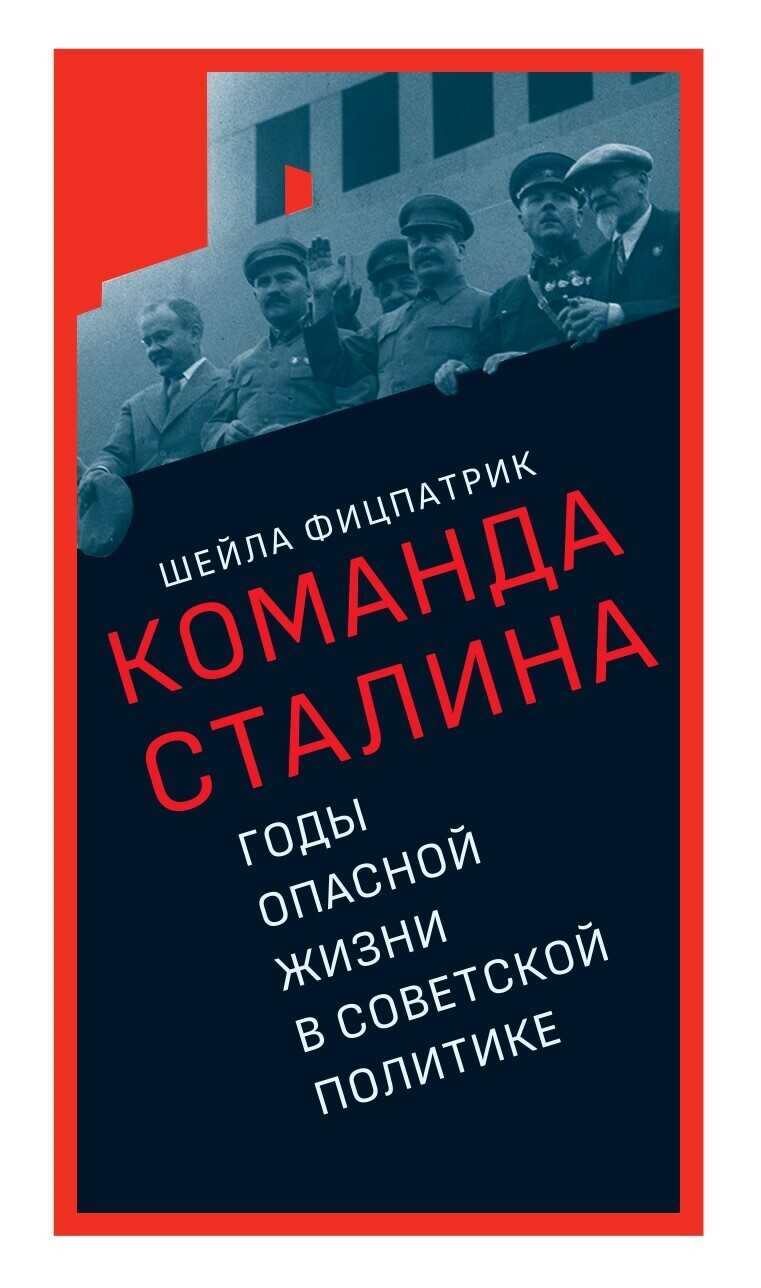Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга известного публициста Игоря Львовича Гольдмана посвящена загадочной смерти Сталина. Автор на основе воспоминаний людей из сталинского окружения и многочисленных документов подробно рассказывает о последнем годе жизни вождя и пяти днях, предшествовавших его смерти. Кроме того, И. Гольдман рассматривая основные существующие предположения, включая заговор и убийство, предлагает свою версию смерти Сталина.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Львович Гольдман»: