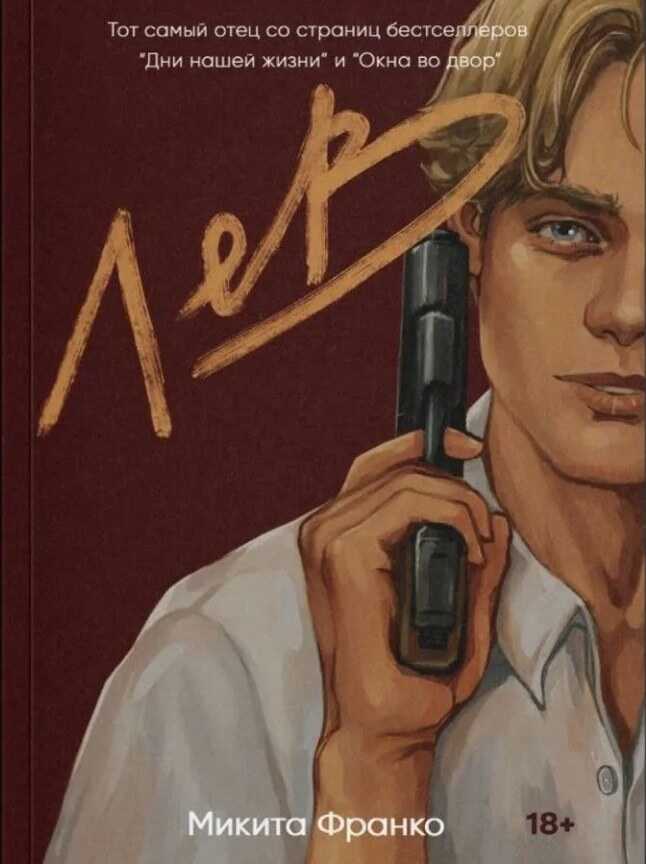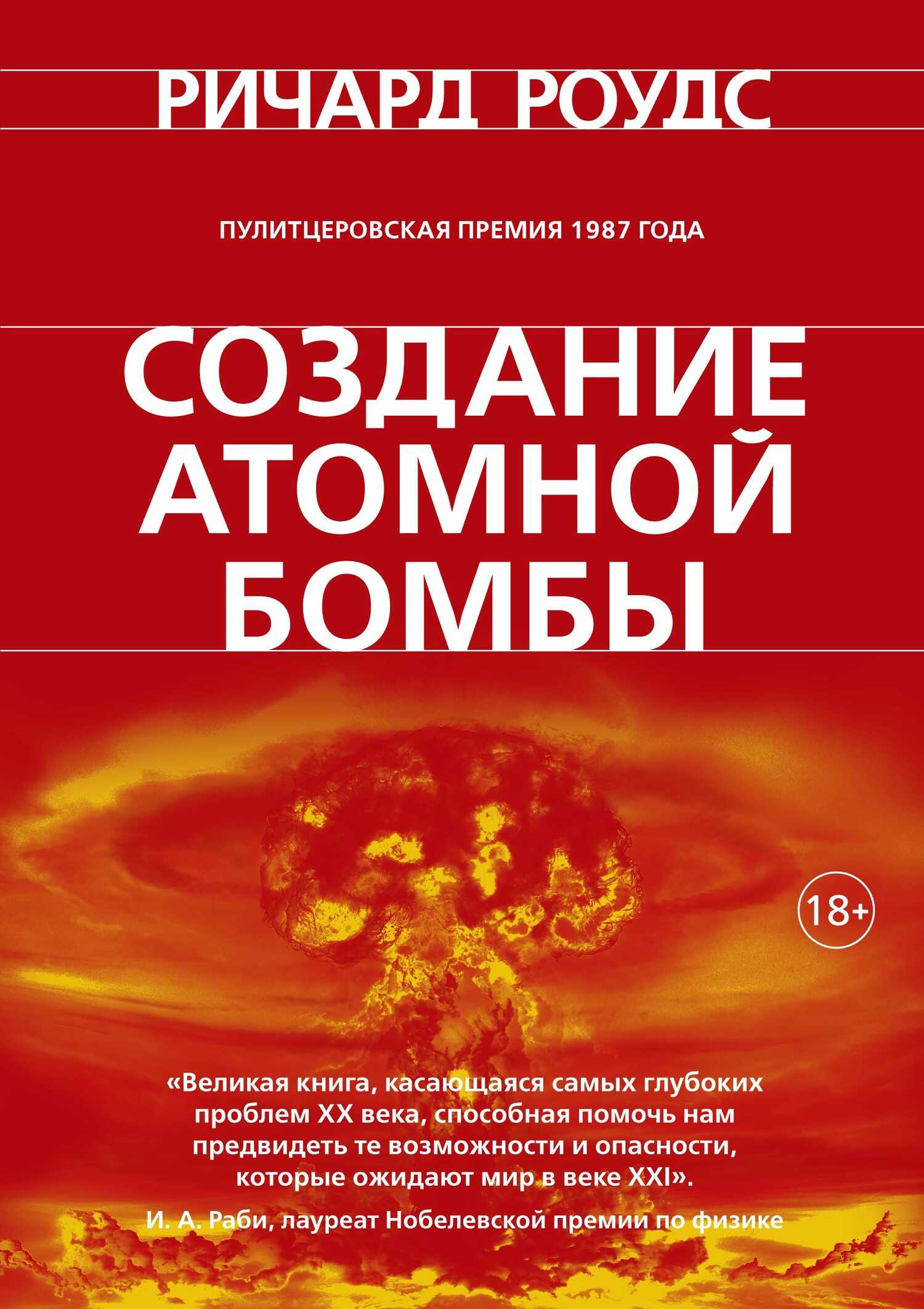Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
История взросления Льва, начиная от 14 лет и заканчивая событиями, которые предшествовали «Дням нашей жизни». Эту книгу можно считать как нулевой в серии (поскольку хронологически она предшествует остальным событиям), так и третьей. Так или иначе читать её можно в любом из этих двух порядков.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Микита Франко»: