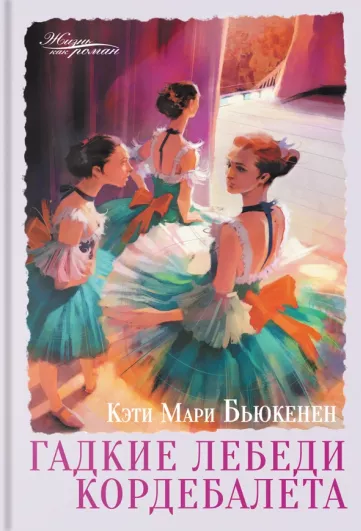Шрифт:
Закладка:
Когда менеджера Фрэнка Доминио смещают с должности, а затем несправедливо увольняют, он решает поквитаться со своими начальниками. Неожиданно он обретает странного союзника – темную, зловещую силу, которая наделяет его невероятными способностями. Теперь месть Фрэнка приобретет по-настоящему жуткие масштабы. Но почему тьма помогает ему, и не стал ли он пешкой в игре, смысл которой обыкновенный человек просто не способен постичь? Но это далеко не все истории. Здесь фирму преследует злой рок, монополистические желания одной международной компании начинают физически изменять ее работников, люди живут бок о бок с таинственным маленьким народцем, а герои классических готических произведений сталкиваются со своими самыми жуткими страхами. Все это мир, созданный Томасом Лиготти, причудливое переплетение ужасов, грез и философии.