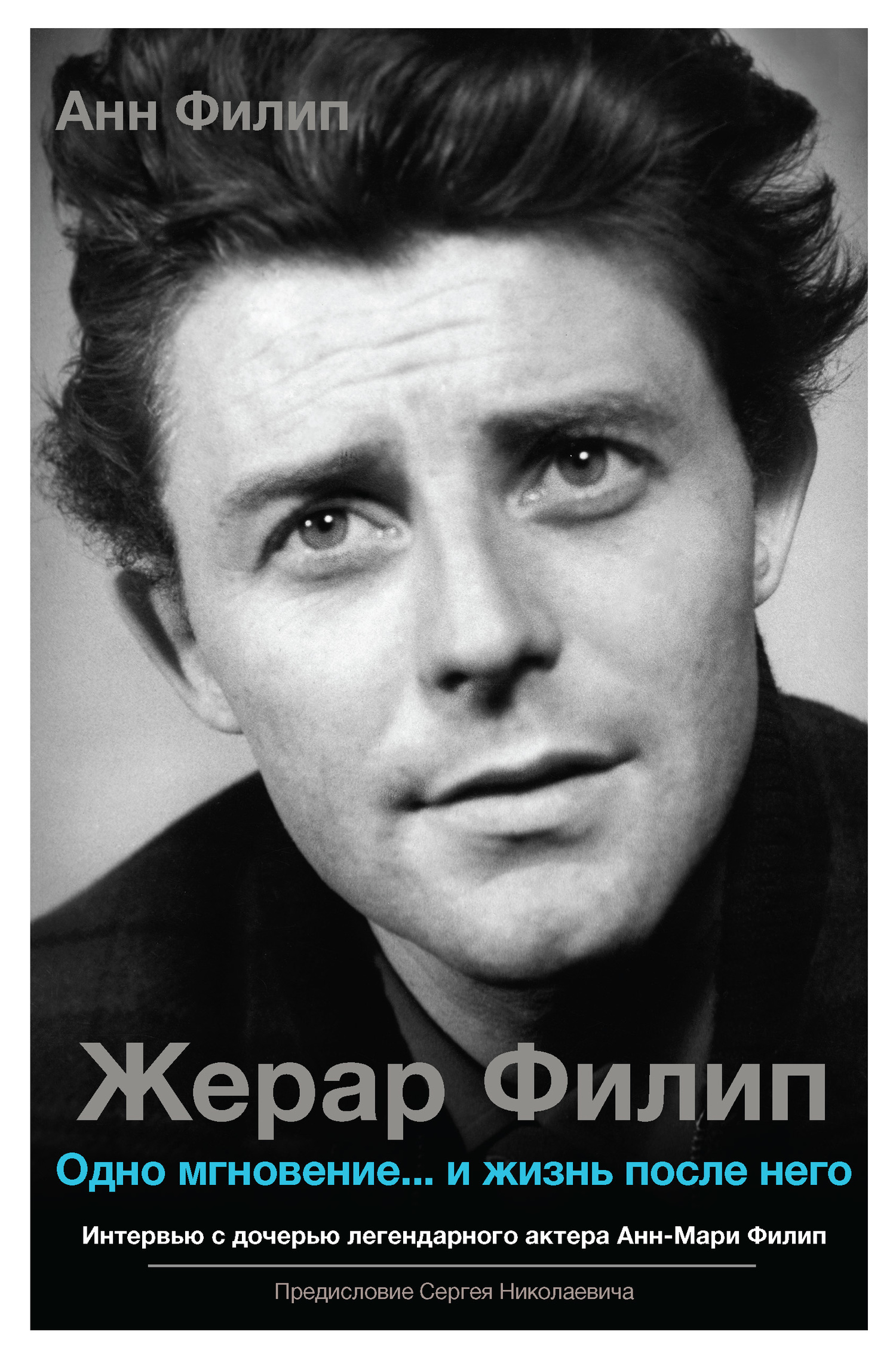Шрифт:
Закладка:
Лишь через восемь лет Ида снова приехала в Нью-Йорк — в ноябре 1976-го, когда в Метрополитен-опера шел «Эйнштейн на пляже». На сей раз в зале было больше 3500 человек: все билеты, в том числе на стоячие места, разошлись. Ида сидела в ложе вместе с отцом Боба Уилсона. Насколько я понял, они оба смотрели и слушали с недоумением, но, по крайней мере, Ида должна была счесть: «Вот это самый настоящий спектакль». Я всегда ломал голову, как расценивала Ида колоссальную перемену в моей судьбе, произошедшую за столь короткий срок. После «Эйнштейна» она стала относиться к моей профессии серьезно, тревожилась, правильный ли у меня подход к аспектам композиторской работы, которые связаны с бизнесом. Она уже взяла в толк, что я буду музыкантом по гроб жизни, и теперь беспокоилась лишь, что мне до скончания дней будет нелегко прокормить семью.
Ида была чрезвычайно интересным человеком. К каждому из своих детей у нее был индивидуальный подход. Она всегда старалась откладывать каждый лишний цент, а на сэкономленное покупала акции компании «AT&T». Хранила в этих акциях все свои сбережения и, как оказалось, сделала весьма мудрый выбор: ее инвестиции становились все прибыльнее. Ида умерла в 1983 году, будучи владелицей нескольких, так сказать, активов. Она распределила их между сыновьями и дочерью, руководствуясь своим пониманием того, как им лучше помочь. Например, при жизни она купила здание, в котором находилась фирма моего брата, и после ее смерти оказалось, что это здание завещано брату. Моя сестра получила деньги, отложенные Идой на черный день. Должно быть, Ида рассуждала так: «Когда женщина одна-одинешенька на свете, ей понадобятся деньги». Моя сестра была вовсе не одна-одинешенька: давно уже вышла замуж и жила счастливо, но Ида совершенно безосновательно полагала, что Шеппи нужно оставить деньги на случай, если в ее супружеской жизни случится катастрофа. Насчет меня Ида не сомневалась, что я всю жизнь буду сидеть на мели и деньги у меня никогда не появятся, и потому завещала мне половину своей учительской пенсии (в штате Мэриленд это дозволялось). Когда учителя выходили на пенсию, они могли при желании получать на руки часть суммы, а остаток пенсии завещать одному из своих членов семьи. Эту наследственную пенсию могло получать одно поколение, и мне до сих пор поступают эти деньги. Иде пожизненно выплачивалась ее половинная пенсия, а мне, тоже пожизненно, досталась другая половина.
Состарившись, моя мать переехала во Флориду вместе со своей сестрой Марселой и ее мужем, дядей Генри-барабанщи-ком, и они приобрели квартиры в одном кондоминиуме. Ида страдала болезнью, которую мы называли «отвердением артерий», — атеросклерозом. Жировые отложения накапливались, кровеносные сосуды сужались, и слишком мало крови поступало в конечности. Иде сделали несколько ампутаций, и это был кошмар. В сущности, они кромсали и резали, пока не осталось ничего.
Марти, Шеппи и я поочередно ездили в Флориду. Составили график, чтобы кто-то из нас всегда оказывался там в выходные, я приезжал в третью субботу каждого месяца и оставался на три-четыре дня. Так продолжалось некоторое время. Помню, однажды я оказался там вместе с братом. Стоим у окна. Кровать Иды — у противоположной стены. Ида находилась в коме: в последние недели жизни она лежала в забытьи, но иногда приходила в себя. И вот я разговаривал с братом. И спросил:
— Как ты думаешь, она нас слышит?
От стены раздался голос:
— Естественно!
Мы чуть не выпрыгнули в окно. Позднее я выяснил, что человек в коме может много чего слышать. Нужно следить за своими словами, а еще нужно знать, что с человеком, находящимся в коме, можно разговаривать. Впоследствии я привык вести разговоры с умирающими, ведь это одна из тех вещей, в которых и состоит суть жизни. Смерть становится привычной. Это уже не некий тайный ритуал. Это явление, которое случается с твоими родными и друзьями.
Когда я приезжал во Флориду в те последние времена — Ида совсем угасала, и, приехав, ты мог надеяться разве что перекинуться с ней несколькими словами, — я просто сидел в ее комнате, выходил пообедать, потом возвращался. Однажды, когда я сидел у Иды, она пришла в себя. Поманила меня рукой.
— Да, мама, да, я здесь.
Она кивнула и сделала мне знак, чтобы я наклонился: хотела что-то сказать.
— Авторские права! — прошептала она.
— Что-что?
— Авторские права.
Я сообразил, что она беспокоится за мои авторские права, потому что моя музыка стала цениться. В недавнем прошлом она пришла к выводу, что моя музыка кое-чего стоит (наверно, узрела перемены к лучшему), и теперь хотела удостовериться, что авторские права принадлежат мне.
Я наклонился к самому ее уху и сказал:
— Мама, все улажено.
Она кивнула.
— Я зарегистрировал[42] авторские права на всё, они принадлежат моей фирме.
Она снова кивнула. Вот последнее, что мы сказали друг другу. Она до самого конца держала все под контролем. Нет, музыку она не слушала, но понимала, что в моей жизни наступил поворотный момент: тогда, в сорок шесть лет, я уже написал не только «Эйнштейна», но и «Сатьяграху». Какой-то невероятный выверт судьбы превратил меня из человека, совершенно неизвестного музыкальным кругам, в автора произ-ведений, ценность которых имела денежное выражение. Ида просто хотела удостовериться, что проблему авторских прав я уладил.
Сомневаюсь, что Ида вообще знала мою музыку. Я иногда виделся с нашей дальней родственницей Беверли Гураль, которая живет в Балтиморе. Собственно, она доныне поддерживает со мной контакты. В молодости Беверли училась в Консерватории Пибоди, была пианисткой. Позднее состояла в Балтиморском хоровом обществе и исполняла кое-что из моих вещей. Наверно, именно через Беверли Ида наводила справки о моей музыке — по первым рецензиям. Рецензии были разгромные, но это ничего не значило. Родня присылала мне письма: «Поздравляю, надеюсь, ты не пропустил эту рецензию», — и прилагалась рецензия из газеты, выходившей в Чикаго или любом другом городе, где жили мои родственники. Какая-нибудь убийственная рецензия, но родственников это не смущало: главное, меня вообще заметили