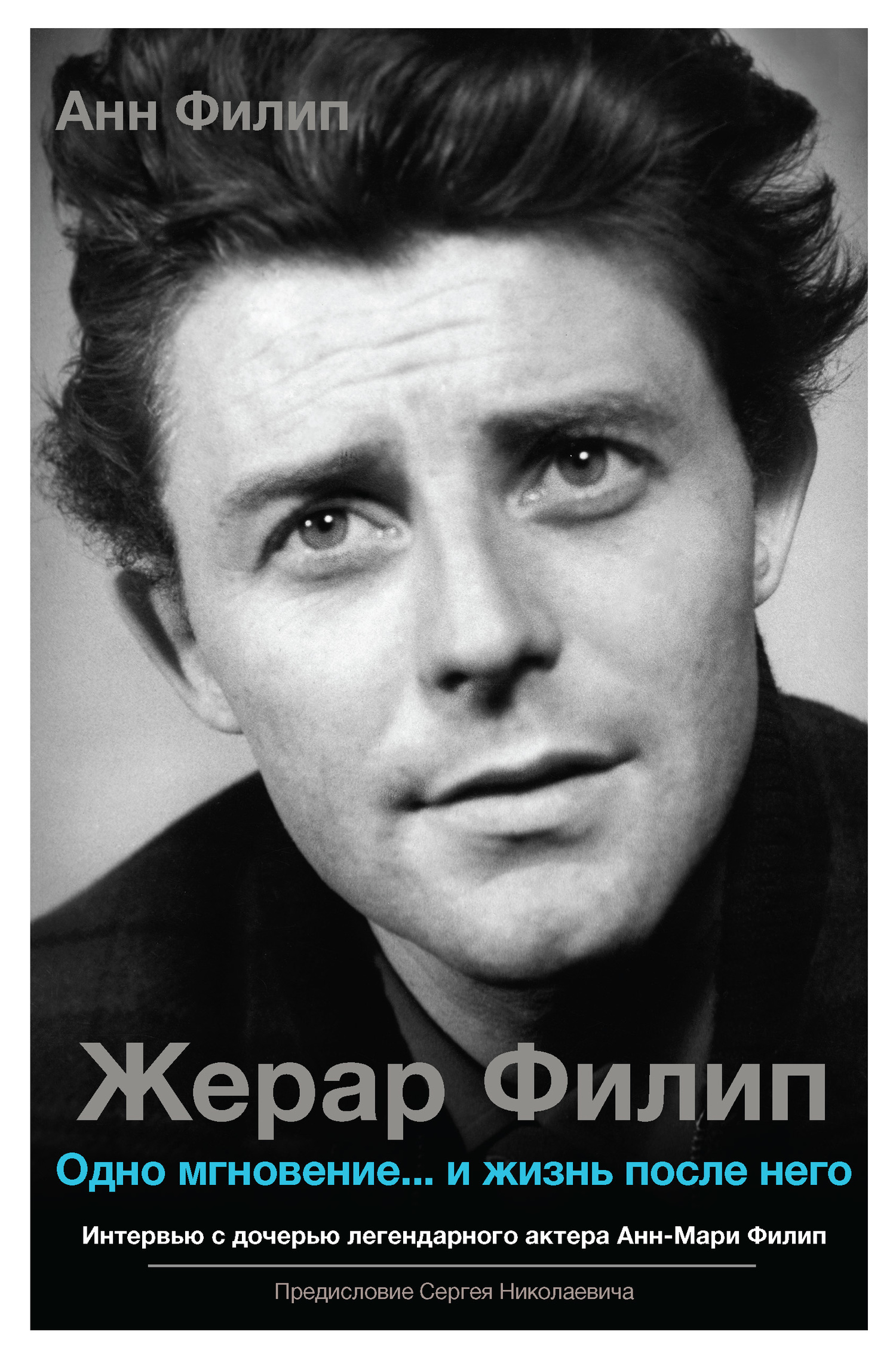Шрифт:
Закладка:
В театральном мире центрального Нью-Йорка все мы друг друга знали, и творчество друг друга — тоже. Жили настоящей общиной. Каждая труппа занималась тем, что было интересно ей самой, и мы ценили любознательность и фантазию коллег. Я ходил на спектакли Джо Чайкина и Ричарда Шехнера, а также Боба Уилсона, Мередит Монк и Ричарда Формена. Мы упивались многообразием: в результате принципы формировались скорее благодаря разноголосице, чем единогласному консенсусу. И все же зритель воспринимал эти работы скорее озадаченно, чем зачарованно. Например, работы Ричарда Формена были в равной мере вдохновляющими и заумными. Я много лет подряд смотрел все его постановки, но редко понимал, что именно я вижу; однако их замысел и не предполагал понятности. Собственно, я назвал бы его работы антиинтеллектуальными в том смысле, что он не поощрял их рациональное осмысление, а на практике оно вообще было невозможно. Ричарду удавалось создать на сцене абсолютно захватывающий поток сценографических и драматических событий. Одновременно в глаза тебе, как правило, бил свет, в барабанные перепонки — шум; делалось все, чтобы нарушить нормальный ход мыслей, с которыми ты пришел в театр. И наступал момент, когда твое восприятие спектакля коренным образом менялось. Ты нико-гда не мог предугадать, что дальше, и это было совершенно неважно.
Сила театральных работ Ричарда состояла в том, что они были алогичными, но рационально обоснованными. Многие зрители жаждали испытать именно те эмоции, которые пробуждали его спектакли: запредельные ощущения, нечто вроде эпифании, эмоциональный кайф, который возникает, когда рвешь с рациональностью и драматизмом. Оказывается, в человеческой психике есть большой простор для переживания глубоких и трансцендентных эмоций, которые, пожалуй, имеют мало общего с обыденностью. В этом смысле опыт зрителя в театре мало чем отличается от восторга, который охватывает тебя в лесу или при взгляде на лучезарное небо летом.
Эти способы испытать трансцендентные переживания не имеют ничего общего с теорией драмы, которую изложил Аристотель и довел до совершенства Шекспир. Когда ты смотришь пьесу Беккета, эпифания наступает не в тот момент, когда она должна наступить по прогнозу Аристотеля. Не в тот момент, когда герой становится жертвой рока. В «Игре» или в «Ожидании Годо» она может наступить в любой момент. Если эмоциональное содержание необязательно связано с нарративным содержанием, и эпифания может наступить в любой момент, такая эмоция больше не привязана к самому материалу, который ты воспринимаешь. Она становится альтернативным способом восприятия музыки или, кстати сказать, живописи, хореографии, литературы, поэзии или кино.
Более того, теперь это переживание само обретает преобразующую способность. Оно может ощущаться как трансцендентное не в понятийном смысле, а потому, что наши переживания не помещены в какой-то заранее предопределенный контекст. Сюжета больше нет. «Ромео и Джульетты» больше нет. Произведение воздействует так же сильно, как литература о романтической любви, но обходится без сюжета о романтической любви. В этом есть нервическая острота. Когда мы идем смотреть традиционный спектакль или слушать традиционную оперу, у нас обычно нет ощущения, что мы стоим на пороге неизведанного. Мы остаемся в плену чего-то привычного. Возможно, даже упиваемся этим привычным. Но в альтернативном театре, который предлагали Ричард и другие поборники радикально-нового восприятия, можно было испытать восторг и раскрепощенность в обостренной форме. Это определенно требовало отваги и от творца и от зрителя. Отвага может порождаться как умудренностью, так и неопытностью, но в конечном итоге разница невелика: отвага есть отвага.
Почему все это происходило именно в тот период? Во многом это была негативная реакция на модернизм 20–40-х годов. У нас все еще были спектакли, унаследованные от Теннесси Уильямса или Артура Миллера, но мы чувствовали, что принцип романтизма себя исчерпал. Мы сами исчерпали себя, и нам пришлось начинать с какой-то другой точки отсчета. Мы отбросили все, что сочли банальным и даже тошнотворным; на деле это значило, что содержательность пришлось отбросить почти целиком.
Но непосредственные предтечи у нас все-таки были: Джон Кейдж, Мерс Каннингем и «Живой театр». У нас даже были «Магазинные дни» Класа Ольденбурга и «Хэппенинги» Аллана Капроу. Эти люди, наши старшие братья, начали расчищать поле, где мог бы пустить корни театр нового типа: театр, не основанный на каком-либо сюжете, театр визуальный, эмоциональный и хаотичный. Это наши предшественники начали пересекать границы между разными родами искусства: композитор Кейдж работал с хореографом Каннингемом; художник Роберт Раушенберг — с тем же Каннингемом, а также с хореографом Тришей Браун и «Джадсонским театром танца». Мы придавали боль-шое значение творчеству предыдущего поколения. Очень серьезно относились к его достижениям, хотя они почти игнорировались нью-йоркскими и в целом американскими арбитрами культуры.
Благодаря Кейджу, Беккету и другим нашим предшественникам мы не должны были все демонтировать: они демонтировали все до нас. Нам не пришлось уничтожать понятие «роман»: это уже сделали «Моллой» и «Мэлон умирает» Беккета. Кейдж и Беккет во многом очистили для нас игровое поле, и благодаря им мы смогли начать игру с самого начала. Мы воспользовались этим обстоятельством.
Джон Кейдж питал ко мне симпатию как к человеку, но при разговорах со мной иногда качал головой и говорил:
— Филип, слишком много нот, слишком много нот, слишком много нот.
Я со смехом отвечал:
— Джон, хочешь не хочешь, а я один из твоих детей.
Хоть он и бурчал: «Слишком много нот», — мы прекрасно ладили. Наконец он нашел среди моих произведений кое-что себе по вкусу — оперу «Сатьяграха» 1979 года — и не преминул известить меня об этом. Несколько раз упомянул в беседах, что «Сатьяграха» произвела на него впечатление.
Подлинной школой театра для меня стала работа в «Мабу Майнс», продолжавшаяся больше двадцати лет. Со временем я расширил круг деятельности: стал сотрудничать с другими театральными режиссерами и другими труппами, порой сочинял музыку и песни для спектаклей. Это, в свою очередь, помогло мне переключиться на работу в кино, где я применял примерно те же методы. К тому времени я стал не только разбираться в работе композитора, но и кое-что узнал о многих других театральных специальностях: работе режиссера по свету, создании костюмов и декораций, — что обычно не входит в компетенцию композитора. Я сказал себе: моя задача — научиться всему, чему получится. Прошло относительно немного времени, и я стал работать в оперных театрах, причем, как и прежде, не только в качестве композитора. Я серьезно воспринимал свою функцию автора оперы и поставил себе задачу: ознакомиться со всеми аспектами оперного театра.