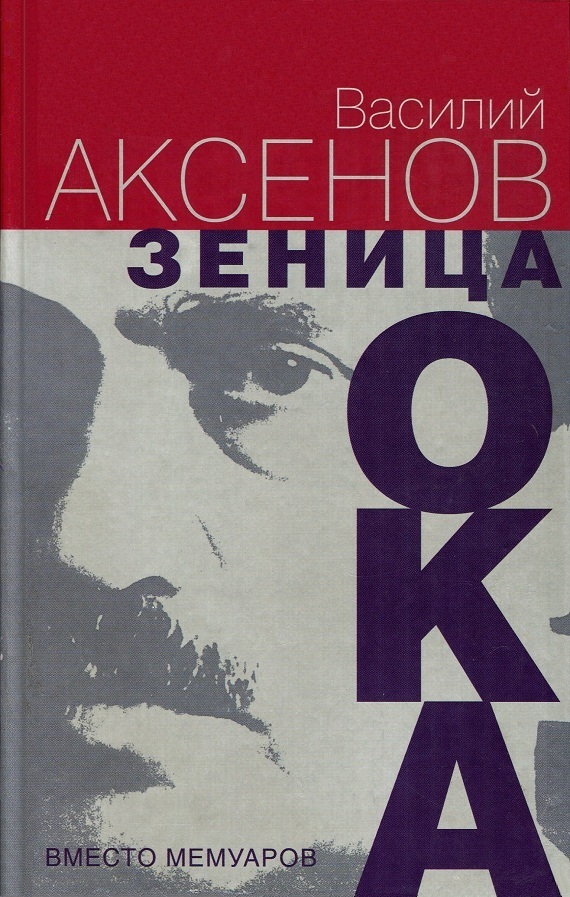Шрифт:
Закладка:
«В этой книге вы увидите рытвины, петли и тупики. Если учишься писать у подлеска – не бойся застревать и плутать». В поэтических циклах, составивших книгу «О чем я думаю», Оксана Васякина продолжает исследовать темные углы памяти, связанные с семейным и личным опытом, телесностью и взрослением. Но на этот раз взгляд писательницы сосредоточен еще и на времени как таковом: путешествуя по «кротовым норам» своей биографии, она методично фиксирует тектонические сдвиги в собственном сознании и окружающей реальности. Особое место в сборнике занимает «Книга Гуро» – поэма-исследование, попытка проникнуть внутрь личного и художественного опыта поэтессы Елены Гуро (1877–1913). Оксана Васякина – писательница, лауреатка премий «Лицей» (2019) и «НОС» (2021).