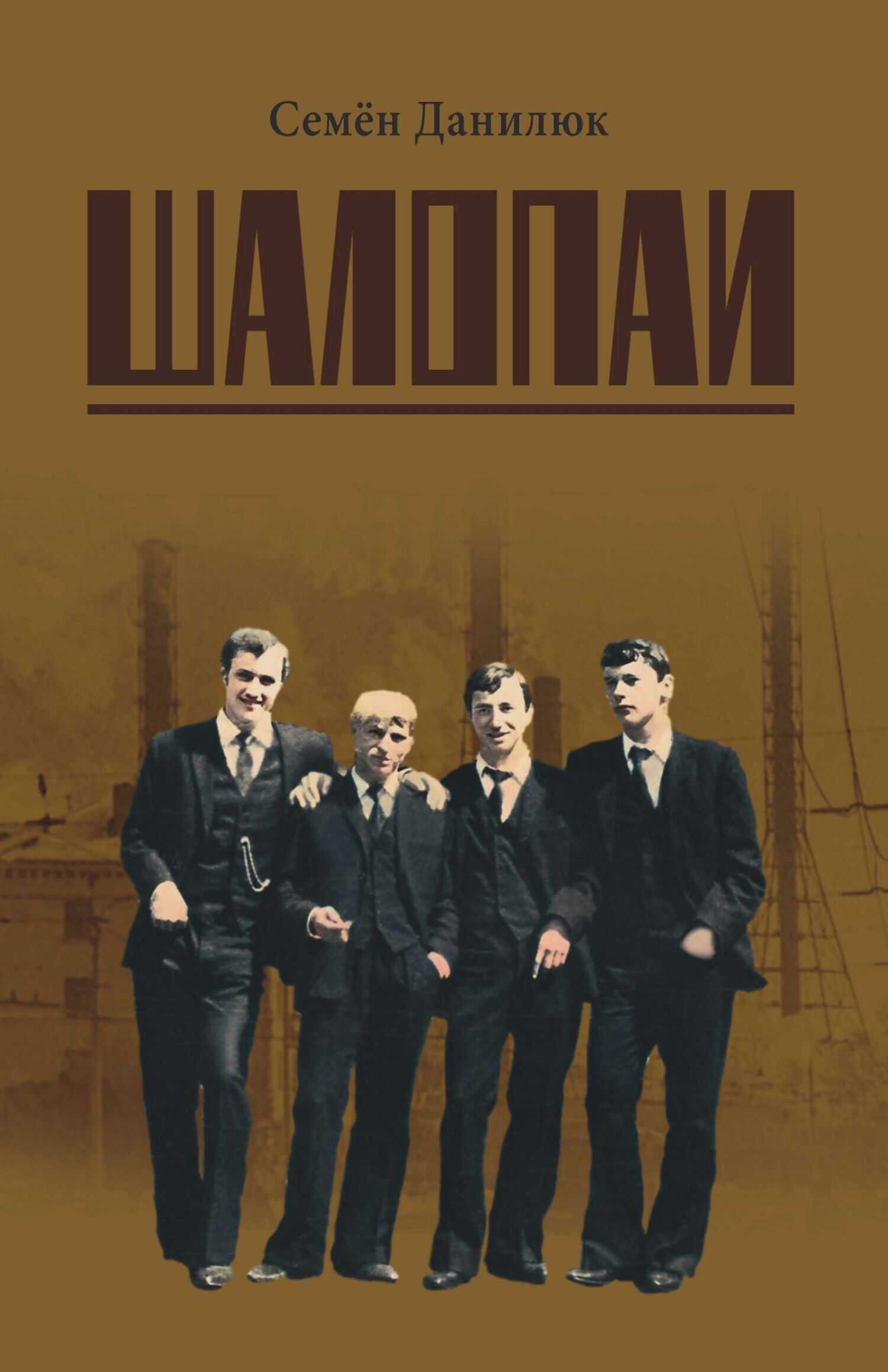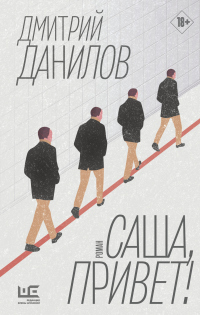Шрифт:
Закладка:
Разве что следующая от двери комната выделялась среди прочих деловой скупостью. Посреди неё стоял широченный письменный стол, заваленный рулонами, эскизами, стружкой. Лаборатория хозяина.
– А свои полотна мы на втором этаже развесили, – сообщила хозяйка. – Алёша говорит, – для души. А по мне, так они куда лучше остального. И эксперты, что приезжали, так же считают, – она доверительно понизила голос. – …Ну, посидите. Я пока похозяйничаю. И почаёвничаем. Знаменитым матэ угощу! Нам его друзья из-за границы привозят. Только вот вижу плохо. Поможете? – она, вновь на французском, обратилась к Клышу.
Чувствовал себя Данька скверно. Простодушная старушка, истомившаяся без общества, палила уличающей информацией направо и налево. И оттого в Клыше нарастало чувство неловкости, будто в замочную скважину подглядывал. А вот Гутенко не просто слушал – впитывал с жадным вниманием, делал пометки. Едва хозяйка отошла, Вальдемар припал к уху Клыша:
– Ты усвоил, на какие тыщи тыщ здесь всего? Слышал? Шагал, Сотсби. Зуб даю – на миллионы. А старуха болтлива. Трещит, как белка. Из неё, если с умом, много вытянем.
– Зачем? – Клыш нахмурился.
– Как это? Сажать будем наверняка с конфискацией. А тут на одних стенах на пяток приговоров хватит. Давай поколи её, Клышка! В крайнем случае, отвлеки. А я пока втихаря по столам пошарю.
– Не пошаришь! Пока хозяин не вернётся, обыск не начнём.
– Да ты!.. – вскинулся было Вальдемар.
– Запрещаю! – коротко отрубил Клыш. Вернулся к старушке. Разговор, к неудовольствию Гутенко, продолжил на французском.
– Скажите, Ваш сын родился в двадцать восьмом. Семнадцать лет прожил во Франции. Наверняка свободно владеет французским.
– Ещё бы не свободно! – закивала Маргарита Прокофьевна. – Наоборот. Если бы мы с мужем не заставляли его дома разговаривать по-русски, как раз его он бы и не знал. Но, – она вздохнула, – мы растили сына патриотом. В вере, что рано или поздно вернёмся на Родину… Вернулись! – перебила она себя, помрачнев.
– Я к тому, что он после освобождения мог бы преподавать язык. Почему ж никуда не устроился?
– Ещё как устроился, – старушка оживилась. – В пединститут, на факультет иностранных языков… Сначала закончил экстерном. А после пригласили на кафедру. Это ещё до того, как он меня в Казахстане обнаружил. Самого едва выпустили. И надо же – бросился нас с мужем разыскивать. Муж, правда, в первый же год сгинул. А я вот дотянула. Знаю, три года на кафедре этой отработал. На хорошем счету был.
– И что? Надоело в коллективе?
– Надоело, – подтвердила она, будто не заметив иронии. – Алёша подал документы на защиту диссертации по особенностям парижского уличного диалекта. Ему отказали. Там доцент одна была. Всё к нам в дом ходила. Слушала, в рот заглядывала. Записывала за ним. А когда Алёша документы подал, вдруг заявила, что принимать нельзя. Произношение, что ли, недостаточно чистое. То есть у неё, дальше Сандова не выезжавшей, чистое, а у парижанина подгуляло… – По лицу её просквозила надменная досада. – И ведь проголосовали всей кафедрой. Три года рядом, в рот заглядывали. И – проголосовали. А эта сама докторскую заявила к защите. После этого уволился. Род Мещерских многое перетерпел, но сносить обиды от хамья не приучены! От Родины стерпеть можно, но не поименно от каждой хабалки!
Она надменно вскинула головку, будто на пару десятков лет помолодела, и прошла на кухню.
Марик Забокрицкий, в отличие от других, словно прилип к надраенным самоварам на угловой полке.
– Чего у самоваров крутишься? Чаю хочешь? – подколол его Вальдемар.
– Аж сияют! Не видел бы, не поверил, что так можно отреставрировать, – завистливо протянул Забокрицкий.
– Дура! Что самовары? Копейки! Открой зенки хоть на картины. Совсем другой ценник.
– Наверное, – безразлично согласился Марик. – Только картины писать – талантом обделён. А этому, думаю, можно научиться, – он любовно огладил самовар.
Гутенко покрутил пальцем у виска:
– Слышь, Алька, дурачка? Посреди изобилия на медные самовары запал, как туземец на бусы… Эу! Поплагуев!
Ничего не слышал Алька Поплагуев. Как обнаружил стеллаж с виниловыми пластинками, припал – и уж не отрывался. Перед ним был праздник. Дирижёры: Карлос Клайбер, Георг Шолти, Герберт фон Караян. Исполнители: Гилельс, Горовиц, Рихтер. Отдельно – Вертинский, Окуджава. И – Шаляпин!
– Да! Красотень, – выдохнул он.
Похоже, всех околдовал дивный терем.
Дверь распахнулась. В палаты, с алабамом на поводке, ворвался высокий худощавый мужчина с редеющей со лба курчавой шевелюрой, с косичкой, собранной в пучок, с холеной, поблескивающей серебром бородкой, в джинсовом, в обтяжку костюме. Ему можно было бы дать лет сорок, если б не глубокие морщины на лице и стариковские складки на шее – из-под сбившегося платка.
Клыш глянул и посерел. Перед ними застыл тот самый бородач, что спас его, отказавшись опознать после демонстрации. Сейчас он недобро, лоб в лоб, смотрел на Гутенко, хорошо ему знакомого.
Узнал бородача и Алька. Хотя видел его аж десятилетним пацаном. Это было в ту эпоху, когда на улице Вольного Новгорода ещё не посносили деревянные дома вдоль трамвайной линии. В одном из них – точнёхонько перед домом Шёлка, жила одинокая ткачиха Валентина Хахина. Разбитная разведёнка. Любимым развлечением пацанья было выследить очередного ночного гостя и, когда в доме погаснет свет, устраивать постукалочку – стучать в стекло камешком, привязанным к нитке, за которую дёргали из кустов. Из дома выскакивала полуголая Хахина. Её истошная матерщина доставляла пацанью несказанное удовольствие.
Но однажды вместо Валентины выскочил сухощавый бородатый мужик – в майке и трениках, натянутых наизнанку. С ходу всё сообразив, он поозирался и побежал к кустам, за которыми пряталась проказливая троица. Клыш, Граневич и Поплагуев припустили к Дому шёлка. Но, видно, постукалочку они затеяли в самый неподходящий момент, – рассвирепевший бородач погнался следом.
– Поубиваю сволочей! – пообещал он.
Вид его был страшен. Надеясь оторваться, шкодники вбежали в третий подъезд, пулей взлетели на верхний этаж, через незапертую дверь проникли на чердак. Оттуда на покатую крышу. Спрятавшись за конёк, прислушались. Злобный преследователь не отставал. Шаги его уже топали по чердаку. Пощады ждать не приходилось. Пацанов со страху заколотило.
Данька выглянул с крыши. Далеко внизу блестел после дождя дворовый асфальт. Но метром ниже вдоль стены выступал узенький карниз, по которому – если повезёт – можно добраться до водосточной трубы в десятке метров правее. Загрохотала кровля – свирепый бородач выбрался на крышу.
Скинет! – определил Оська.
Клыш решился. Перебрался через бордюр, нащупал карниз ногами и, вжавшись в стену спиной, двинулся к водостоку. Следом, хоть и трясясь со страху, перелез Оська. Его качнуло вперёд. Данька успел ухватить за руку.
– Вниз не смотреть, – приказал он.
Так вдвоем, рука в руке, приставным шагом они двинулись к спасительному водостоку.
– Давай же! – крикнул Клыш Альке. Но тот, боявшийся высоты, лишь мотнул головой. «Пусть уж сам сбрасывает», – решил он.
Через полминуты над ним нависла