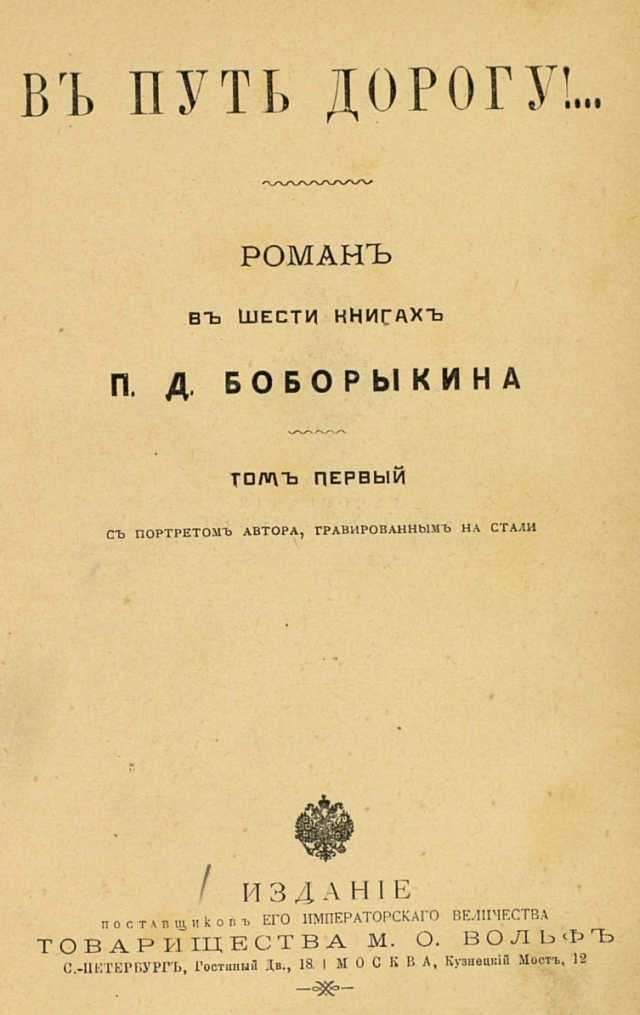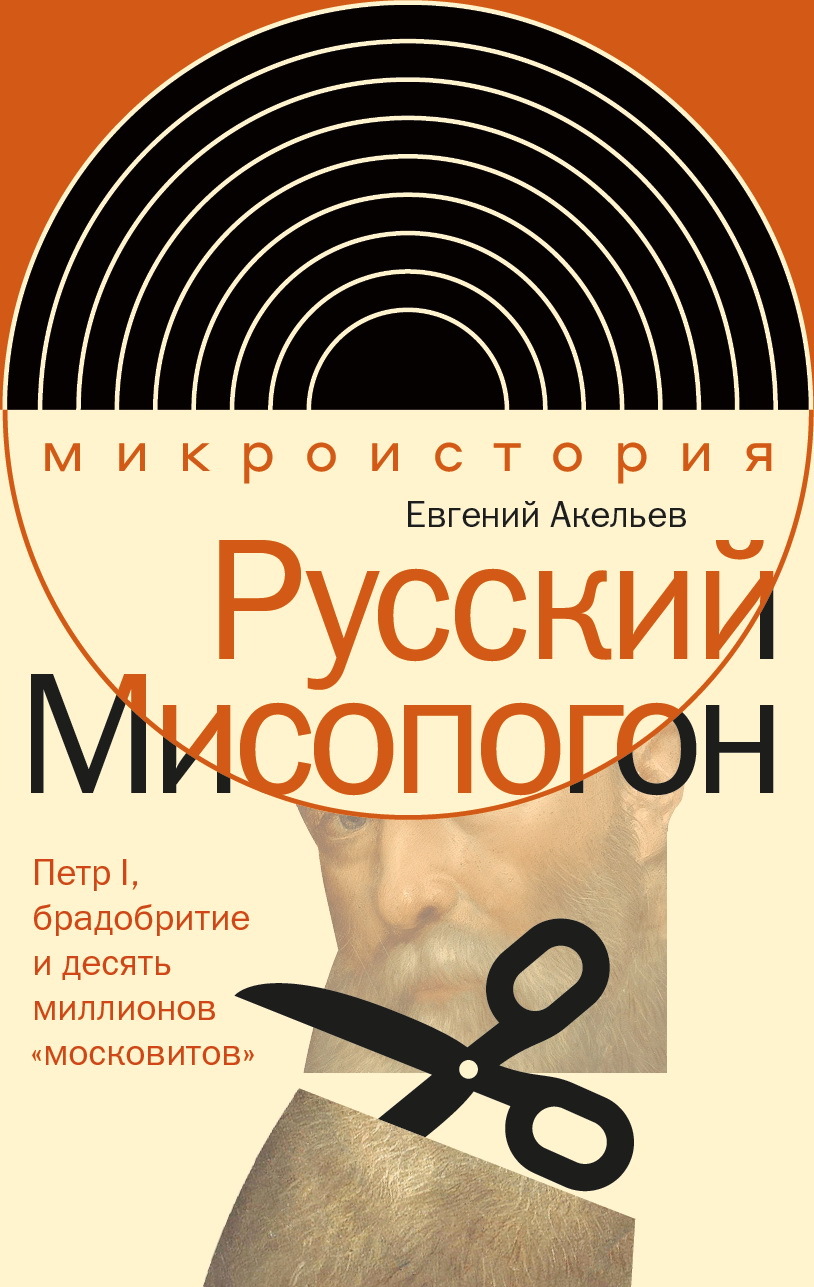Шрифт:
Закладка:
— Вотъ вамъ Пушкинъ, — крикнулъ Горшковъ:
Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя вѣнчали
И колыбель
Твою качали!
Ха-ха-хаа!..
— Ты паясничаешь, Горшковъ, — прервалъ его Борись — точно будто во всемъ Пушкинѣ и есть только, что одна Адель?
— Какъ вамъ не стыдно, Горшковъ, — вскричала Софья Николаевна: — вы артистъ, художникъ и забываете «Бориса Годунова», «Каменнаго Гостя», «Моцарта и Сальери», «Скупаго рыцаря«?…
— Вы его не вините, — отозвался Абласовъ — онъ это такъ, онъ всѣмъ этимъ восхищается, что вы сейчасъ назвали; но, вѣдь, это все художество… хорошо, спору нѣтъ, да какъ-то мало оно за сердце хватаетъ; мы чего-то другаго ищемъ. Я дурно выражаюсь, но говорю дѣйствительно то, что въ насъ есть… Вы возьмите-ка лирическіе стихи у Пушкина, учили мы всѣ ихъ, пока доберешься до одного слова, что задѣнетъ тебя за живое… все цвѣточки, да дѣвы, да посланія, да вакханки, да пиры какіе-то.
Горшковъ привскочилъ на мѣстѣ и, останавливая рукой Абласова, — закричалъ:
— Помнишь ты это?
Образъ Елены
Въ сердцѣ пылалъ!
Ахъ, возвратися,
Радость очей,
Хладно тронися
Грустью моей!…
Ха-ха-ха а…
— Ахъ, какой несносный Горшковъ! — воскликнула Софья Николаевна. — Да вы вспомните, когда это писано? сколько было ему лѣтъ?
— Да ужъ коли на лѣта пошло, — возразилъ Абласовъ: — такъ вотъ какой стихъ былъ у Лермонтова въ шестнадцать лѣтъ, тоже въ нѣжномъ родѣ…
— Знаю, что ты хочешь привести, — прервалъ его Борисъ. — «Она поетъ»?
— Да, да. Прочти, прочти — ты лучше меня прочтешь…
Борисъ, не отрывая глазъ отъ Софьи Николаевны, прочелъ:
Она поетъ, и звуки таютъ
Какъ поцѣлуи на устахъ;
Глядитъ — и небеса играютъ
Въ ея божественныхъ, глазахъ.
Идетъ ли — всѣ ея движенья,
Иль молвитъ слово — всѣ черты
Такъ полны чувства, выраженья,
Такъ полны дивной простоты…
Всѣ притихли подъ обаяніемъ музыки стиха.
— Хорошо, прекрасно! — сказала Софья Николаевна. — Да какъ ты славно читаешь, Борисъ!
— Онъ у насъ первый чтецъ, — провозгласилъ Горшковъ.
Борису пріятно было, что она его похвалила. Онъ ничего на это не сказалъ и только улыбнулся.
— Да все-таки это не доказательство, господа, — начала опять Софья. Николаевна. — Вы забываете эпоху, вы забываете то, кому труднѣе было создавать новый стихъ.
— Совершенно справедливо, — возразилъ Абласовъ — но не въ этомъ дѣло-съ. — Не о стихѣ я и говорилъ. Содержанія больше такого, которое пасъ всѣхъ волнуетъ… Вы возьмите у Лермонтова любое маленькое стихотвореніе: вездѣ что-то живое, кровное… онъ страдаетъ, онъ возмущенъ; его тѣснятъ и давятъ… онъ нашъ, принадлежитъ нашему времени, — вотъ что дорого-съ.
И точно въ отвѣтъ на это Борисъ прочелъ вполголоса:
Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?
На что намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ лѣтъ,
Разсудка злыя сожалѣнья?
— Слышите? — проговорилъ Абласовъ. — А эти помните слова:
О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ
И дерзко бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горестью и злостью?!…
Отъ этого защемитъ на сердцѣ — намъ то и нравится, Софья Николаевна, что намъ ближе. Назадъ, вѣдь, ужь не пойдешь… Вы посмотрите въ журналахъ: одно направленіе, одинъ духъ — не пушкинскій духъ… насущныя нужды есть… Вотъ въ Некрасовѣ какія все струны задѣваются: вся наша жизнь тутъ, не цвѣточки, не амуры да эроты какіе-нибудь, не сладкія элегіи…
На лицѣ Софьи Николаевны выразилось нетерпѣніе; она раскраснѣлась, и только-что Абласовъ немного остановился, прервала его:
— Что вы говорите, Абласовъ, — начала она еъ силой, но сдержанно. — Я понимаю, что вамъ всѣмъ нравится это направленіе, и слава Богу; видно, что вы и думаете и хотите жить, отзываясь на все, что у насъ есть тяжелаго и возмутительнаго; но вы всѣ, господа, схватили только верхи, вамъ дали это готовое, и вы забываете, черезъ что прошло общество; вы забываете, кто былъ нашъ учитель, кто далъ намъ почувствовать, что такая русская жизнь и русскій человѣкъ. Пушкинъ сдѣлалъ это, друзья мои. Когда «Онѣгинъ» вышелъ, мы прозрѣли; да, мы увидѣли все, что только есть, и высокаго, и визкаго и пустаго въ нашей натурѣ и въ нашей судьбѣ… Я увѣрена, что вы не разъ прочли «Онѣгина», да какъ: первый разъ, когда были дѣти, вы только скользили по стиху, а теперь, въ седьмомъ классѣ, — прибавила она съ улыбкой: — вы прочли его съ заранѣе составленнымъ убѣжденіемъ, что все это цвѣточки и пустячки передъ Некрасовымъ.
Борисъ не отрывалъ взгляда отъ лица Софьи Николаевны. Онъ слышалъ опять тотъ же задушевный, увлекательный тонъ, который такъ обаятельно дѣйствовалъ на него, когда она ему разсказывала свое прошлое.
Абласовъ сидѣлъ потупившись; Горшковъ подался впередъ и потряхивалъ вихромъ.
Борисъ слушалъ, и новая гордость наполняла его; ему было оттого еще отрадно, что онъ саиъ понималъ Пушкина почти такъ же, какъ говорила теперь Софья Николаевна.
— Да, когда я сама, — продолжала она: — начала разгадывать немножко дѣйствительность, я открыла «Онѣгина», и впервые нашла въ немъ поэзію и правду жизни. Что таилось во мнѣ непонятнаго для меня самой — все это улеглось, разъяснилось, и нѣтъ такой стороны нашего житья-бытья, которую бы все тотъ же «Онѣгинъ» не разрѣшилъ… Вы говорите, что содержанія мало, правды… Послушайте, господа: вы молоды, начинаете жить; не нынче, такъ завтра, не черезъ годъ, такъ черезъ два, вы полюбите… Задумывались ли вы надъ идеаломъ русской женщины? Кто создалъ намъ образъ Татьяны? И гдѣ найдется другая Татьяна? И не живая ли она стоитъ передъ вами, не дышетъ-ли она правдой, натурой?… Какого же вамъ еще содержанія? какихъ еще интересовъ? Вамъ семнадцать лѣтъ, и вы не любите прекраснаго, когда это прекрасное взято изъ родной вамъ жизни!
Она смолкла, отодвинулась назадъ и, какъ бы желая приласкать ихъ всѣхъ, улыбнулась…
— Вотъ мои убѣжденія, — добавила она: — я ихъ не вычитала, а пережила.
Борисъ кинулся бы расцѣловать ея руки, но ихъ раздѣлялъ столъ. Онъ всталъ и подошелъ къ дивану съ той стороны, гдѣ она сидѣла.
— Тетя, — шепнулъ онъ ей: — дайте мнѣ вашу ручку, — вы ангелъ!
Она обернулась, и съ глубокой нѣжностью потрепала его по щекѣ.
— Вы, можетъ, и правы, Софья Николаевна, — проговорилъ наконецъ Абласовъ, поднимая голову: — вы