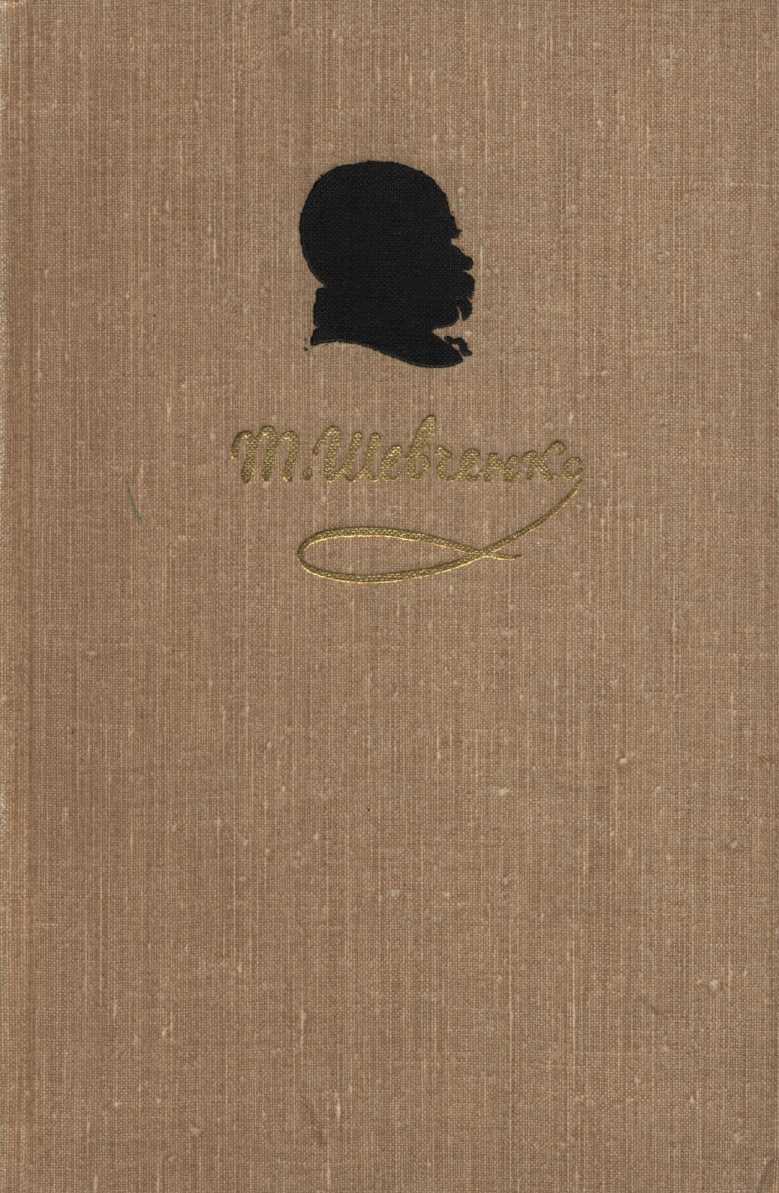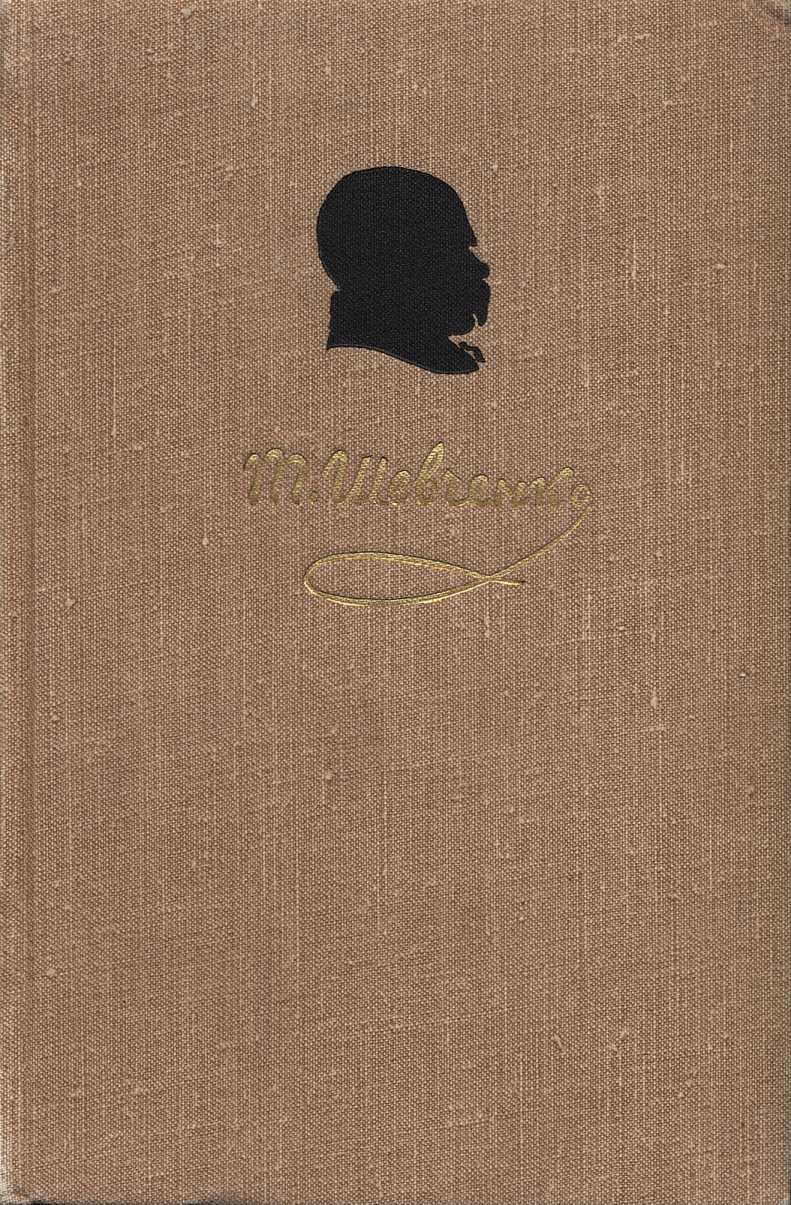Шрифт:
Закладка:
Последние слова тонули в хохоте. Наиболее смешливые чуть не падали из-за стола, а те, что посдержанней, прыскали, утирали тайком глаза, хотя и знали — смейся не смейся, а орденом Трудового Красного Знамени, за хорошую работу наградили все же не кого-нибудь, а Тураша. Тут уж против фактов не попрешь, — ордена даром не дают.
— Эй, Жексен! — окликал Тураш.
— Ау-у…
— Ты вот говоришь, что лысых в городе много, а, видать, кучерявых-то там еще больше, раз тебе институт боком вышел? Может, возьмешься за ум, полысеешь, пока не поздно, а? Глядишь, и пустят тебя в институт — хоть по коридору прогуляться…
Снова хохот. Все видят, что Тураш выиграл поединок, и парни теперь на его стороне.
— Одолел!
— Молодец!
— Припечатал, на месте убил…
Смех еще долго висит над станом, далеко разносясь по округе. Смеются трактористы, и нет покоя ночной тишине…
…А сегодня Тураш возвратился на стан в сумерках. Выпустил воду из радиатора, помылся, сел ужинать. Многие уже вышли из-за стола, а остальные почему-то молчали. Даже записные остряки и те прикусили языки.
И бригадиру Калену не надо было окорачивать эти языки, что делал обычно, когда ребята уж слишком досаждали Турашу, своими шутками. "Эй, языкастые, хватит молоть! — кричал он. — Нашли развлечение — над живым человеком насмехаться! А ну, расходитесь! Завтра вставать рано!.."
Но сегодня молчали остряки, молчал и Кален. И вот, дождавшись, когда Тураш покончил с ужином, он сказал ему:
— Ты бы, дорогой, съездил в аул…
— Это еще зачем? — удивился Тураш.
— Съезди, раз говорю, — бросил Кален и поднялся из-за стола.
Тут-то вдруг и остановилось сердце у Тураша. Подумал: может, не зря кричал тот глупый мальчишка?
Он оттолкнул тарелку:
— Это правда?
Никто не поднимал глаз. Все они, сверстники Тураша, давно уже переженились, было у них по трое, по четверо детей, а он только-только женился…
— Это правда или нет?
Молчание. Тураш стремглав вылетел на улицу. Голова кружилась, — остановился.
— Неужели правда? — спросил он у самого себя. — Да нет, не может быть, шутят опять…
Но побежал к своему трактору.
— Бери мой мотоцикл, — раздался рядом голос бригадира.
— Это правда, Кален-ага? — Тураш ухватил его за рукав.
— Э-эй… Езжай скорее, может, успеешь еще…
— Так правда?
— Щенок! — Кален толкнул его к мотоциклу. — Держи ключ…
Тураш завел мотоцикл, но, не удержавшись, снова обернулся к Калену.
— Каке, без шуток, правда или нет?
— Тьфу!.. Ты когда-нибудь уедешь или нет?
Взревел мотор. Кален смотрел вслед Турашу до тех пор, пока мотоцикл не перевалил через холм и, тяжело вздохнув, вернулся в свою юрту.
А Тураш и Калену не поверил.
— Моя Жанна! — вырвалось у него.
…Девушки, на которой он мог бы жениться, в ауле так и не нашлось. Некоторое время он приглядывался к учетчице из конторы, а потом и предложение сделал, не согласилась. А вдовые молодухи, готовые принять парня, не устраивали Тураша. Такой брак он считал для себя оскорбительным.
Жаннат работала на городской кондитерской фабрике и приехала сюда вместе с другими девчатами помогать в уборке урожая.
Целую педелю, как только сгущались сиреневые сумерки, Тураш и Жанна — это имя ей больше правилось — гуляли по степи. Она была веселая, приветливая, общительная, рассказывала ему всякие презанятные истории из своей жизни. Смеясь, просила и Тураша рассказать хоть что-нибудь, но у него, и раньше-то неразговорчивого, теперь совсем ничего не находилось сказать. Дух захватывало от одного ее присутствия. Стоило невзначай прикоснуться к ней — вздрагивал, смущался… А она смеялась.
…Тихая, безмятежная была ночь в березовом леске под высокой, крутой скалой. Трава — мягкая, теплая, душистая. Они лежали и глядели в небо. Звезды, не пересчитаешь их, мерцали в вышине. Тихая, безмятежная ночь…
Жанна протянула к нему руку, он отстранился было, но когда тонкие пальцы коснулись его лица, испытал вдруг необыкновенное, незнаемое доселе чувство. Точно не кровь, а солнечный свет заструился по телу, рождая в душе нежность.
— Иди же…
— Жанна…
И ночь, и звезды, и небо, — все соединилось в этом новом для него чувстве?
— Жан-на-ат!..
Показались, наконец, огни аула. Взобравшись на перевал, он остановил мотоцикл. Кровь тугими толчками билась в висках.
— Жанна! — выдохнул он. — Нет, невозможно, Жанна…
Он вытащил из нагрудного кармана замусоленную, испачканную машинным маслом пачку "Беломорканала". Из трех оставшихся в пачке папирос, лишь одна оказалась целой. Сделал две-три затяжки и поперхнулся горьким дымом.
Среди далеких огней напряженно искал глазами свое окно. Огни подмигивали, сливались в зарево.
"Не может быть! Разыгрывают, как всегда! Вот приеду и назло всем дня три из дому не выйду! Дорого обойдется вам шуточка…"
Плевком загасил папиросу, отбросил окурок.
В ауле еще не спали. Народ как раз возвращался из кино. Резкий луч мотоциклетной фары выхватил из тьмы группу парней и девушек. Тураш пронесся прямо перед ними на большой скорости.
— Псих, что ли? — крикнули ему вслед.
Вот и магазин в центре аула, поворот, еще поворот, ну вот — его дом.
Темно. Мрак в окнах. Пустые глазницы… "Жанна! Правда?" Не сразу увидел на двери громадный замок.
Охватил озноб. Бросив мотоцикл, Тураш набросился на калитку: тряс дверь, бил кулаками, пинал. Опомнился: зачем он это делает, — видел же, видел — замок! Повернул назад, поднял свалившийся на бок мотоцикл, но, ухватившись за руль, тут же отпустил его.
"Что делать? Что случилось? Не может быть. Жанна не уйдет. Жанна не такая. Но тогда где же она?"
И вдруг сам удивился своему вопросу. Где? Да конечно же — в клубе. В клубе, где же еще? Надо скорее бежать в клуб. Она там, — прибежать и сказать: "Жанна, я приехал. Идем, солнышко…"
Он пошел. Потом, не выдержав,