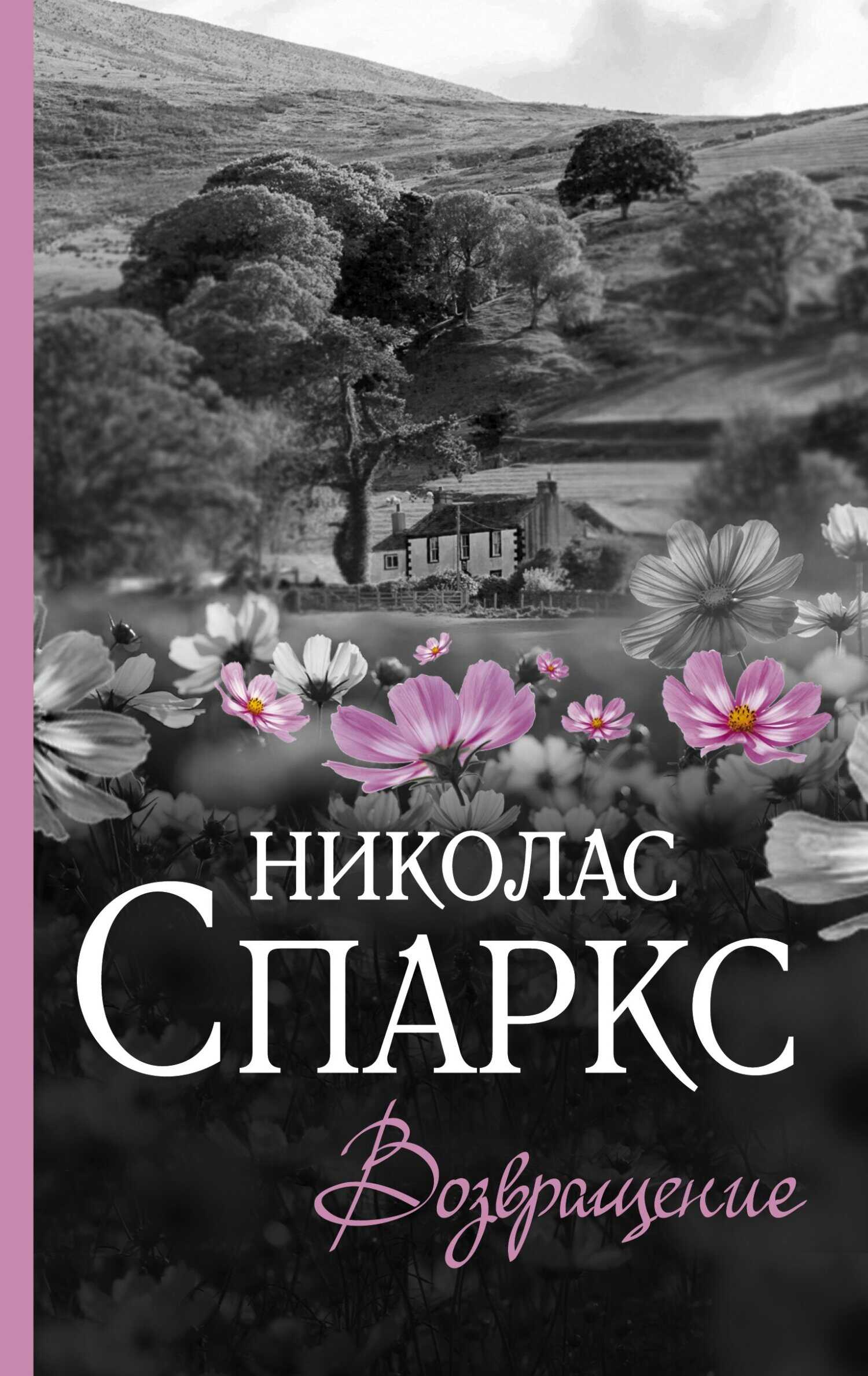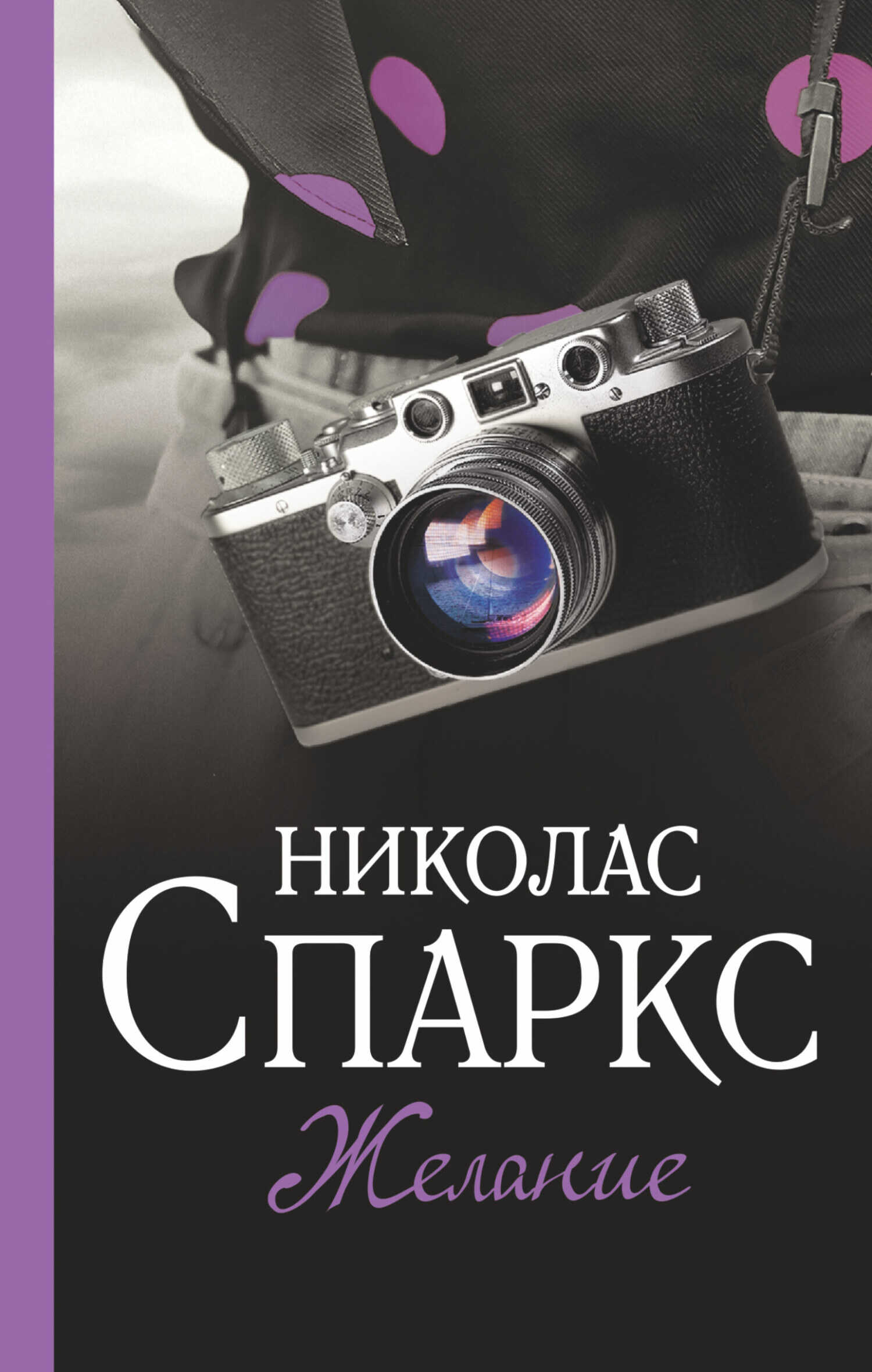Шрифт:
Закладка:
Марк залился краской до корней волос. И вдруг став серьезным сказал:
– Вы были искренни. Когда сказали, что любите его.
– Сомневаюсь, что я переставала его любить.
– И?..
– И теперь вам придется подождать, чтобы услышать остальное. Продолжать сегодня мне не хватит сил.
– Понятно, – кивнул он. – Можно и повременить. Но я надеюсь, вы не заставите меня ждать слишком долго.
Она засмотрелась на елку, изучая ее форму, сверкающие искусно уложенные ленты.
– Трудно поверить, что это мое последнее Рождество, – задумчиво произнесла она. – Спасибо, что помогаете мне сделать его особенным.
– Вам незачем меня благодарить. Это честь для меня – быть избранным, чтобы провести часть праздников с вами.
– А знаете, чего я никогда не делала? Несмотря на то, что долгие годы прожила в Нью-Йорке?
– Не смотрели «Щелкунчика»?
Она покачала головой.
– Никогда не каталась на коньках в Рокфеллеровском центре, под гигантской елкой. В сущности, с первых лет жизни здесь я этой елки даже не видела, кроме как по телевизору.
– Так давайте сходим! Завтра галерея закрыта, почему бы и нет?
– Я не умею кататься на коньках, – погрустнела Мэгги. И не уверена, что мне хватило бы сил, даже если бы я умела.
– Зато я умею, – отозвался он. – Я же играл в хоккей, помните? Я вам помогу.
Она нерешительно окинула его взглядом.
– Неужели у вас нет дел получше в свой выходной? Вам вовсе незачем считать своей обязанностью исполнять безумные прихоти вашего начальства.
– Поверьте, это намного веселее того, как я обычно провожу воскресенья.
– И чем же вы обычно заняты?
– Стираю. Хожу за продуктами. Играю в видеоигры. Ну что, идем?
– Мне понадобится отоспаться. Так что я буду готова лишь к концу дня.
– Может, встретимся у галереи около двух? Поймаем такси и поедем на каток вместе.
Несмотря на все сомнения, она согласилась.
– Ладно.
– А потом, смотря по вашему самочувствию, может, расскажете, что случилось дальше между вами и Брайсом.
– Может быть, – ответила она. – Посмотрим, буду ли я в настроении.
* * *Вернувшись к себе домой, Мэгги почувствовала, как тяжкая усталость завладевает ею, тянет ее вниз, как глубинное течение. Она сняла куртку и прилегла на минутку, чтобы отдохнуть, а уж потом переодеться в пижаму.
И проснулась на следующий день уже после полудня. все еще в той же одежде, в которой выходила из дома вчера.
Наступило воскресенье, 22 декабря. До Рождества осталось три дня.
* * *Мэгги доверяла Марку, но упасть на лед все же боялась. Всю ночь она проспала как убитая, кажется, даже ни разу не перевернулась, и все же слабость ощущала острее, чем в предыдущие дни. Вернулась и боль в спине, будто кипение на медленном огне, которому немного недостает, чтобы стать бурным, в итоге о еде даже думать не хотелось.
Утром звонила ее мама, оставила краткое сообщение о том, что просто хотела проведать ее, и выражала надежду, что у нее все хорошо, как обычно. Но даже в этих немногочисленных словах Мэгги уловила ее беспокойство. Она уже давно догадалась, что мама, беспокоясь за нее, тем самым дает ей понять, как сильно любит ее.
Это беспокойство утомляло, поскольку коренилось в осуждении, – как будто жизнь Мэгги изменилась бы к лучшему, если бы она с самого начала прислушивалась к мнению матери. Со временем эта позиция стала для ее матери постоянной.
Как бы Мэгги ни хотелось дождаться Рождества, она понимала, что обязана перезвонить. Иначе она получит еще одно, гораздо более встревоженное сообщение. Усевшись на край кровати и взглянув на часы, она поняла, что родители сейчас могут находиться в церкви, значит, время подходит идеально. Можно оставить им сообщение, предупредить, что ей предстоит хлопотливый день, и избежать лишнего стресса. Но сегодня ей не повезло. Мама взяла трубку после второго гудка.
Они проговорили двадцать минут. Мэгги расспрашивала про отца, про Морган и своих племянниц, и мама обстоятельно отвечала на ее вопросы. Потом спросила, как Мэгги чувствует себя, и она ответила, что как и следовало ожидать. К счастью, этим мама и удовлетворилась, и Мэгги вздохнула с облегчением, понимая, что ей удастся скрывать правду все праздники и некоторое время после них. Ближе к концу разговора трубку взял ее отец, как обычно, немногословный. Поговорили о погоде в Сиэтле и Нью-Йорке, он известил ее, как идут дела в очередном сезоне у команды «Сихокс» – футбол он обожал, – упомянул, что купил на Рождество бинокль. А на вопрос Мэгги, зачем, объяснил, что ее мама вступила в клуб орнитологов-любителей. Мэгги вслух задумалась, надолго ли сохранится ее очередное увлечение, и вспомнила, как обстояло дело со множеством клубов, в которые ее мама вступала за годы. Поначалу она демонстрировала бурный энтузиазм, Мэгги приходилось выслушивать восторженные рассказы о членах клуба и о том, какие они замечательные, но уже через несколько месяцев мама замечала, что из всего клуба ладит лишь с несколькими членами, а потом объявляла Мэгги, что уходит из него, потому что большинство людей там невыносимы. В мамином мире источником всех проблем неизменно оказывался кто-то другой.
Отец ничего не ответил на это, и Мэгги, повесив трубку, опять пожалела о том, что ее отношения с родителями не сложились по-другому, особенно с мамой. Чтобы в них смеха было больше, чем вздохов. Большинство ее друзей прекрасно ладили со своими матерями. Тринити и тот дружил со своей, а он выделялся бурным темпераментом даже среди художников. Почему же Мэгги все дается с таким трудом?
Потому, мысленно ответила себе Мэгги, что мама осложняла положение, причем с тех пор, как Мэгги помнила себя. Для нее Мэгги оставалась не более чем тенью, существом с непостижимыми и чуждыми надеждами и мечтами. Даже когда им случалось сойтись во мнении по конкретному предмету, мама не стремилась найти в этом утешение. Наоборот, сразу обращалась к той сфере, где их разногласия были особенно очевидными, и превращала в свое основное оружие беспокойство и осуждение.
Мэгги понимала, что мама ничего не может поделать, и, вероятно, в детстве она была такой же. И вправду, если вдуматься, чувствовалось в этом поведении что-то детское: делай, как я хочу, или пожалеешь. Со временем истерики мамы сменились другими, менее очевидными средствами контроля.
Самым тяжким испытанием для Мэгги стали годы после возвращения из Окракоука, пока она не перебралась в Нью-Йорк. Ее мама считала, что строить карьеру фотографа глупо и рискованно, что Мэгги должна по примеру Морган поступить в Университет Гонзага, познакомиться с подходящим мужчиной и остепениться. И когда Мэгги наконец переехала, некоторое время ей было страшно говорить с матерью.
Самое печальное заключалось в том, что ее мама была, в сущности, неплохим человеком. И даже в целом хорошей матерью. Вспоминая прошлое, Мэгги понимала, что мама правильно поступила, отослав ее в Окракоук, к тому же была не единственной из матерей, обеспокоенных оценками или