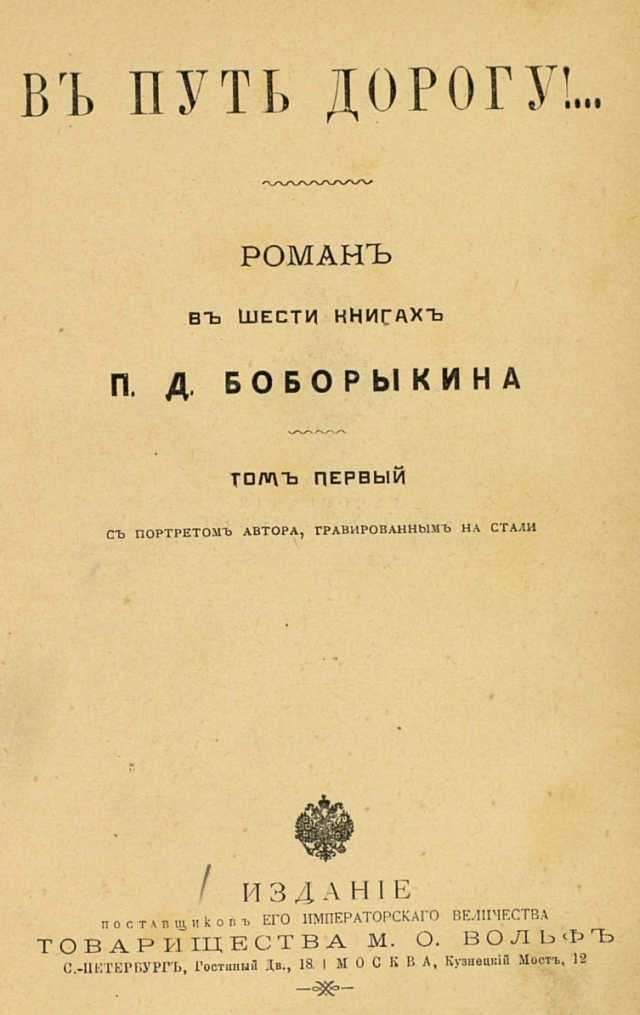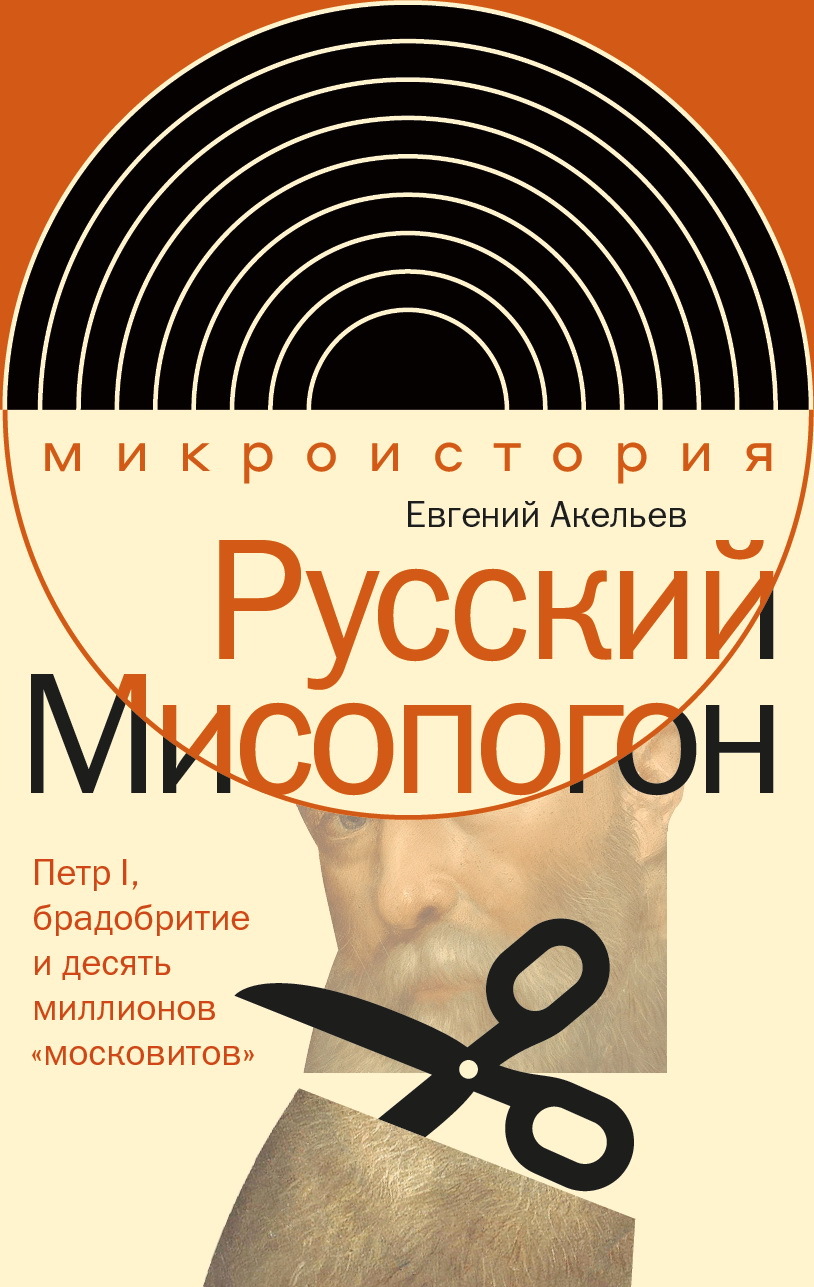Шрифт:
Закладка:
— Все это прекрасно Валерьянъ, — возразилъ Борисъ: — да тонъ-то у ней совсѣмъ другой былъ, она точно съ чувствомъ все это говорила.
— Да, что жъ тутъ мудренаго, промолвилъ Абласовъ, вѣдь ей нелегко, чай, было изъ дома-то выѣзжать; какова она ни была, не безчувственная вовсе, ну, вотъ она такъ и показала себя…
— Мнѣ ее жаль было, братцы, — перебилъ Борисъ — ей-богу жаль! Пускай-бы жила-себѣ, да вѣдь ее ужъ ничѣмъ не передѣлаешь, а съ тетенькой бы она ни за что не ужилась; она съ ней и проститься не хотѣла.
Видно было, что Борисъ гораздо сообщительнѣе съ товарищами; слова такъ и лились у него, чего прежде не бывало.
— А очень молода тетка-то? — сцросилъ Горшковъ.
— Ей двадцать-пятый годъ всего, а на впдъ она еще моложе.
— Такъ она теперь попечительница надъ вами, — промолвилъ Абласовъ — имѣніемъ и всѣмъ будетъ завѣдывать?
— Ну, по имѣнью-то больше будетъ Ѳедоръ Петровичъ. Маша поступитъ подъ ея начальство. Она, вѣдь, братцы, гувернанткой была. Да, ея жизнь замѣчательная… лучше для Маши и придумать нельзя; и какъ она ее любитъ! Только говоритъ все, чтобъ мы ее не считали теткой; «это, говоритъ, черезчуръ важно; ты, говоритъ, меня въ генералы производишь».
Какъ-то особенно пріятно было Борису передавать друзьямъ своимъ всѣ эти маленькія подробности.
— Такъ тетка-то твоя, выходитъ, молодецъ, Боря! — вскричалъ Горшкооъ. — Я очень радъ. Мы, этакъ, значитъ, заживемъ.
— Вотъ теперь-то, Валерьянъ, ты можешь начать съ Машей.
— Ахъ! и въ самомъ дѣлѣ; ладно, братъ, идетъ. Ну, а тетка-то какъ насчетъ музыки?
— Не знаю, не спрашивалъ; да вѣрно музыкантша.
— Это ты почему знаешь?
— Да такъ ужъ видно.
Абласовъ тихо улыбнулся.
— Ты, Телепневъ, смотри, проговорилъ онъ медленно, не влюбись въ тетку-то; что-то ты ужъ очень тово…
Борисъ вдругъ покраснѣлъ.
— Ай-ай-ай! — закричалъ Горшковъ: — смотри-ка, какъ онъ разрумянился. Вотъ ты куда махнул!..
Онъ его взялъ въ сторонку.
— Надя-то все плакала… о тебѣ, знаешь ли ты это, безчувственное животное?
— Она добрая дѣвочка.
— Дѣвочка!.. Какъ ты это говоришь! Хамъ ты послѣ этого.
— Не сердись, Валерьянъ, — сказалъ Борисъ ласково. — Ты непремѣнно желаешь, чтобъ я къ ней пылалъ… — Абласовъ, разсуди насъ… Валерьянъ хочетъ, чтобъ я былъ влюбленъ въ Надю.
— Ничего я не хочу. Я объявляю только, что ты эзопъ африканскій!
— Ты оставь его въ покоѣ, —сказалъ Абласовъ Горшкову, указывая на Бориса… — ты видишь, онъ теперь совсѣмъ другой человѣкъ сталъ.
— Какъ другой? — спросилъ Борись.
— Разумѣется, — отвѣчалъ Абласовъ съ тихой улыбкой — итакъ ты гораздо лучше.
— Въ самомъ дѣлѣ? — спросилъ Борисъ съ разстановкой.
— Я тебѣ говорю, ужъ вѣрь мнѣ.
— А въ самомъ дѣлѣ, — вскричалъ Горшковъ, — ты мнѣ больше нравишься, уродъ!
— Такъ когда же вы ко мнѣ, братцы? — спросилъ Борисъ: — соберитесь послѣ-завтра вечеромъ.
— Тетка-то твоя важная, поди, — сказалъ Абласовъ.
— Да ты видишь какая… полно, Абласовъ, совсѣмъ простая — никого ужъ не стѣснитъ, повѣрьте. Да мнѣ съ тобой нужно еще объ дѣлѣ переговорить.
— Что такое? — спросилъ Абласовъ.
— Мы съ тетенькой еще не рѣшили на счетъ Машиныхъ уроковъ… а я думаю, она тебя попроситъ помочь ей.
— Какимъ же это наукамъ? — проговорилъ Абласовъ.
— Да тамъ увидишь… ариѳметикѣ.
— Вѣрно ариѳметикѣ, — ввернулъ Горшковъ… — Тамъ тетка, хоть и первый сортъ, а все, чай, слаба на счетъ десятичныхъ дробей; эта премудрость имъ не дается.
Горшковъ вдругъ остановился. За доской въ классѣ послышался голосъ инспектора.
— Журналъ подать, гдѣ старшій? — кричалъ Егоръ Пантелѣичъ.
— Абласовъ, слышишь! — шепнулъ Горшковъ, — тебя кличетъ. — Всѣ трое вышли изъ-за доски.
Инспекторъ немного попятился, увидавъ Бориса.
— Телепневъ, — закричалъ онъ, — когда изволили пожаловать?
— Сегодня, Егоръ Пантелѣичъ, — отвѣчалъ Борисъ.
— Что такъ долго?
Борисъ ничего не отвѣчалъ.
— Я васъ спрашиваю, — повторилъ пнспекторъ.
— Нельзя было. Я отца хоронилъ.
— Надо было записку.
— Отъ кого же, Егоръ Пантелѣечъ? — спросилъ улыбаясь Борисъ.
— Какъ отъ кого?.. Почемъ я знаю, кто у васъ тамъ родственники?
— Бабушка моя уѣхала… я одинъ съ маленькой сестрой, такъ отъ нея, что ли, прикажете записку? -
Инспекторъ покраснѣлъ и проворчалъ:
— Глупости все говорите, у васъ все отговорки. Развѣ вы одни теперь остались? — спросилъ онъ, перемѣнивши нѣсколько тонъ.
— Одинъ, — отвѣтилъ Борисъ.
— Вѣдь вы еще несовершеннолѣтній… какъ же вы будете управлять пмѣніемъ?
— Опекунъ есть.
Борисъ говорилъ такимъ голосомъ, что Егоръ Пантелѣичъ не продолжалъ дальше разспросовъ.
Онъ придрался сейчасъ же къ Абласову.
— Никогда васъ нѣтъ, — заворчалъ онъ — никогда не придете съ журналомъ… покажите мнѣ.
Абласовъ подалъ.
— Не явившихся никогда не записываете. Все стачка, товарищество глупое! Я знаю, что у васъ теперь завелось шатанье, отлыниванье отъ классовъ… по трактирамъ, по харчевнямъ сидите… дебоширите. Погодите: поймаю я кого-нибудь вотъ послѣ звонка… будете вы у меня гулять!.. Вѣрно кто-нибудь не пришелъ?
— Всѣ въ классѣ, — проговорилъ сумрачно Абласовъ.
— Знаю я васъ!.. Я вотъ загляну въ третью лекцію.
Егоръ Пантелѣичъ, по старинной семинарской привычкѣ, любилъ называть классы лекціями.
Помявшись на одномъ мѣстѣ и перелистовавши, для контенансу, журналъ, инспекторъ потекъ изъ класса.
— Тумба тротуарная — крикнулъ ему вслѣдъ Горшковъ. — Господа! составимте подписку, лотерею устроимте, въ пользу умалишенныхъ… посадимте Егорку на общій счетъ въ желтый домъ, моченьки нѣтъ слушать его нелѣпости!
Выскочилъ Мечковскій, и ни съ того, ни съ сего прошелся колесомъ по залѣ.
Это почти всегда бывало послѣ всякой сцены съ начальствомъ. Мечковскій исполнялъ эту роль очень добросовѣстно.
— Браво, Мечковскій! еще, bis! — закричали всѣ… Мечковскій повторилъ, къ общему удовольствію, и сейчасъ же перешелъ къ другой роли.
XIX.
Вошелъ Ергачевъ, учитель словесности. — Мечковскій выскочилъ опять на средину класса и началъ пищать: Преблагій Господи!
Ергачевъ очень любилъ Бориса. На этотъ разъ онъ его подозвалъ къ каѳедрѣ, и долго говорилъ съ нимъ, что случалось чрезвычайно рѣдко.
— Я вотъ всѣмъ сочиненія задалъ, — сказалъ онъ между прочимъ — такъ вы можете и подождать, теперь у васъ такое время.
— Нѣтъ, я постараюсь написать, — отвѣтилъ Борисъ — мнѣ теперь хотѣлось бы что-нибудь получше, да знаете, Иванъ Егорычъ, а… вѣдь намъ, гимназистамъ, ужасно трудно писать: размышленія — все антимонію на водѣ разводишь, ничего мы порядкомъ не видали, да и думали-то мало; описанія… — опять вода…
— Вамъ разсказы надо писать, — сказалъ Ергачевъ — у васъ тонъ вѣрный, языкъ сжатый… наблюдательность есть… что видѣли да слышали, то и пишите, а чужаго- то не надо.
— Вотъ именно мнѣ бы и хотѣлось… знаете изъ себя что-нибудь, только ужъ вы повремените, Иванъ Егорычъ, я въ срокъ-то, пожалуй, и не представлю.
— И не нужно, — проговорилъ Ергачевъ, — это не такое дѣло. Вѣдь насъ заставляютъ… Да вотъ, если у васъ что-нибудь порядочное выйдетъ — бесѣду надо