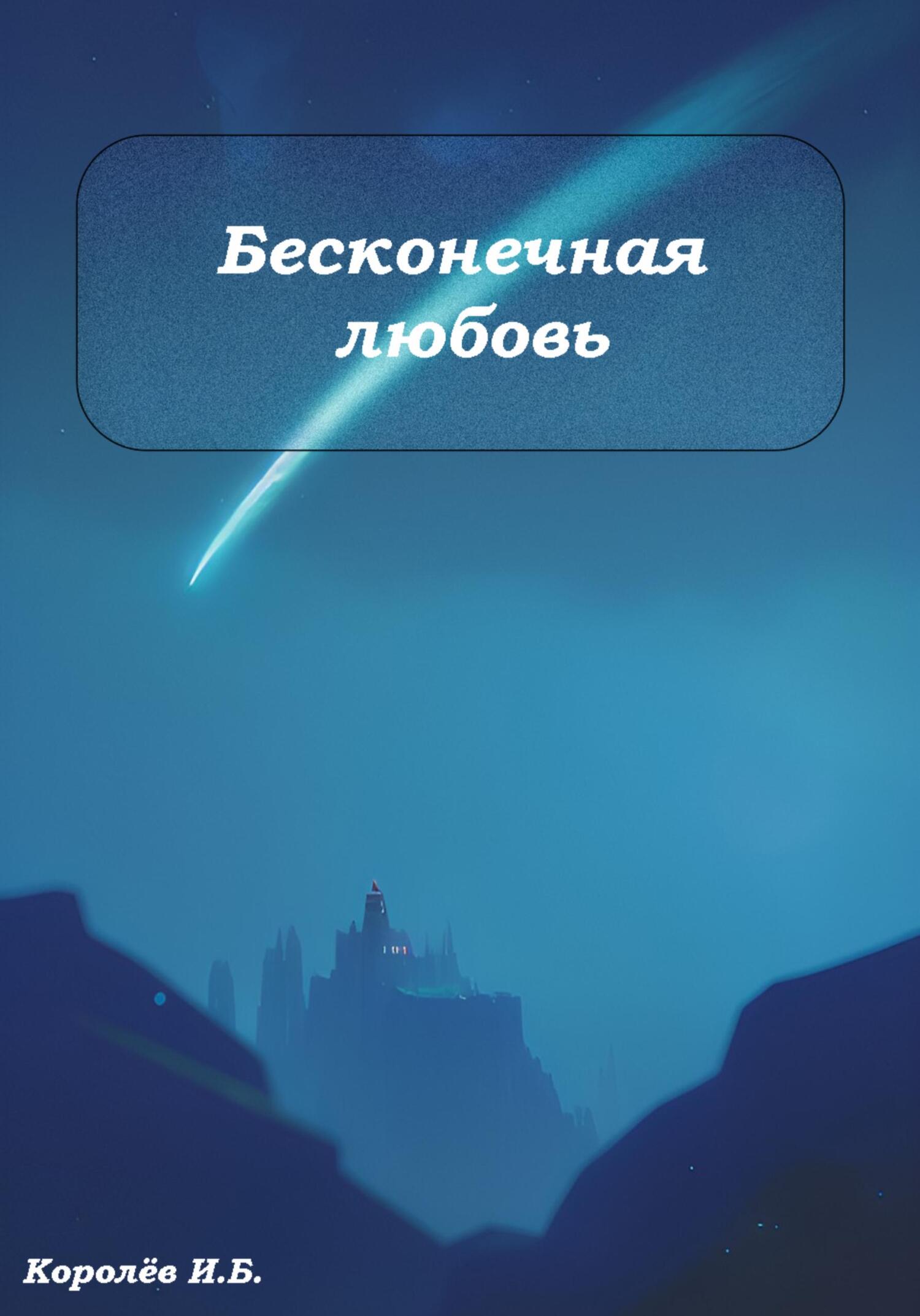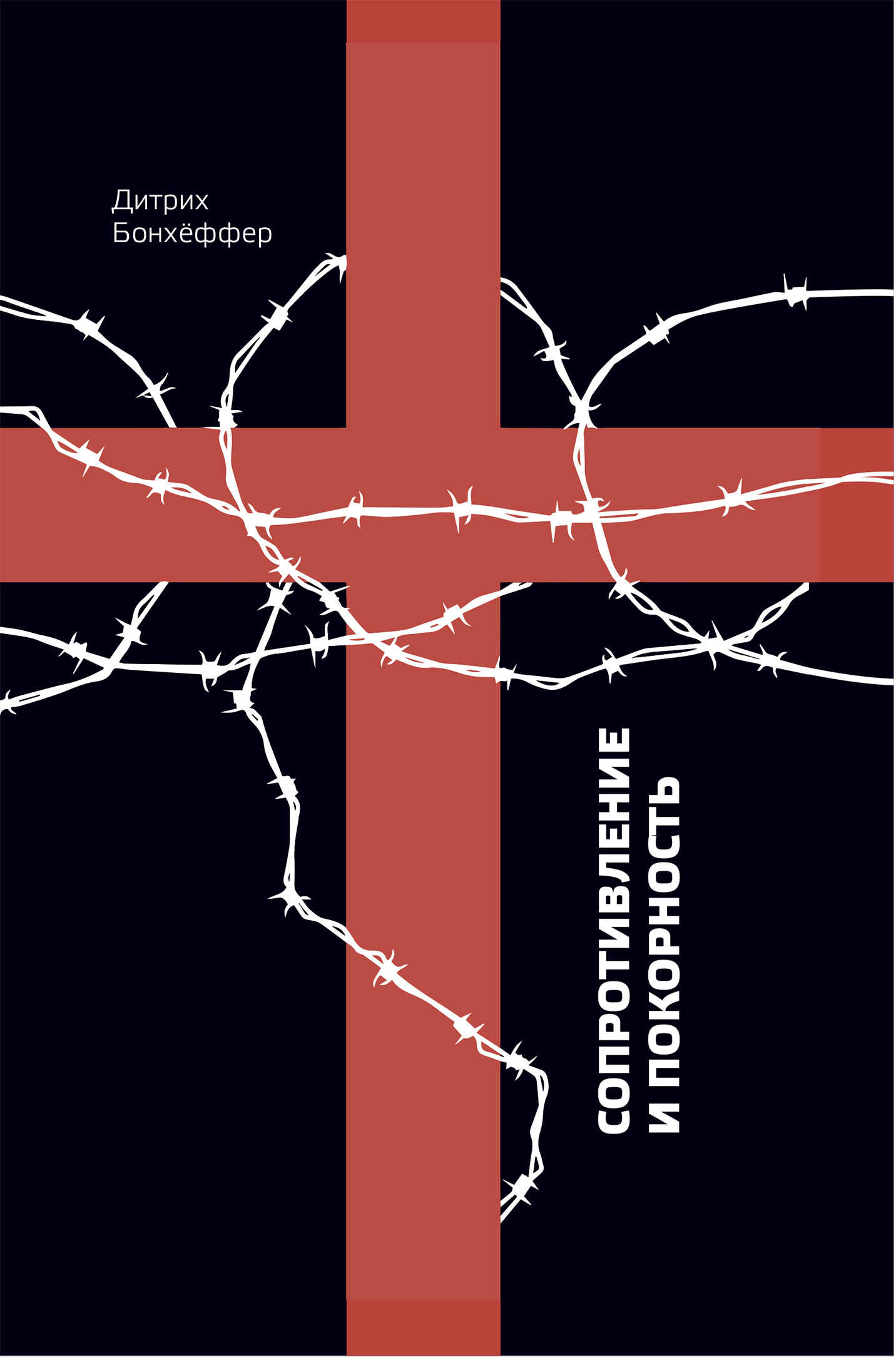Шрифт:
Закладка:
Это книга о том, как одна случайность может изменить всю жизнь. Марина - обычная девушка, которая работает журналистом в известном журнале. Она не мечтает о большом и не верит в чудеса. Но однажды она получает в подарок от своей подруги старинные часы, которые имеют особую силу. Они могут переносить ее в разные времена и места, где она встречает интересных людей и узнает много нового. Она путешествует по истории и культуре, посещает разные страны и континенты, испытывает разные эмоции и впечатления. Она познает мир и себя, узнает много интересных фактов и секретов, а также переживает за судьбу героев, которые не боятся рисковать ради своих идеалов. Но вскоре она понимает, что ее путешествия не так безопасны, как кажутся. Ведь за каждое перемещение нужно платить своей памятью, своей личностью, своей жизнью. И чем больше она путешествует, тем больше она теряет себя. Кто она на самом деле? Какой мир является ее родным? Как вернуться домой?
Если вы любите захватывающие романы с элементами фантастики, приключения и романтики, то эта книга для вас. Вы познакомитесь с удивительными героями, которые готовы ради счастья на все. Вы узнаете много интересных фактов и секретов, а также переживете за судьбу героя, который не боятся рисковать ради своих идеалов. Не упустите шанс прочитать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и окунуться в атмосферу приключений, опасности и любви. Времена не выбирают - это увлекательный и познавательный роман Елены Валериевны Горелик, который не оставит вас равнодушными. Приятного чтения! 😊