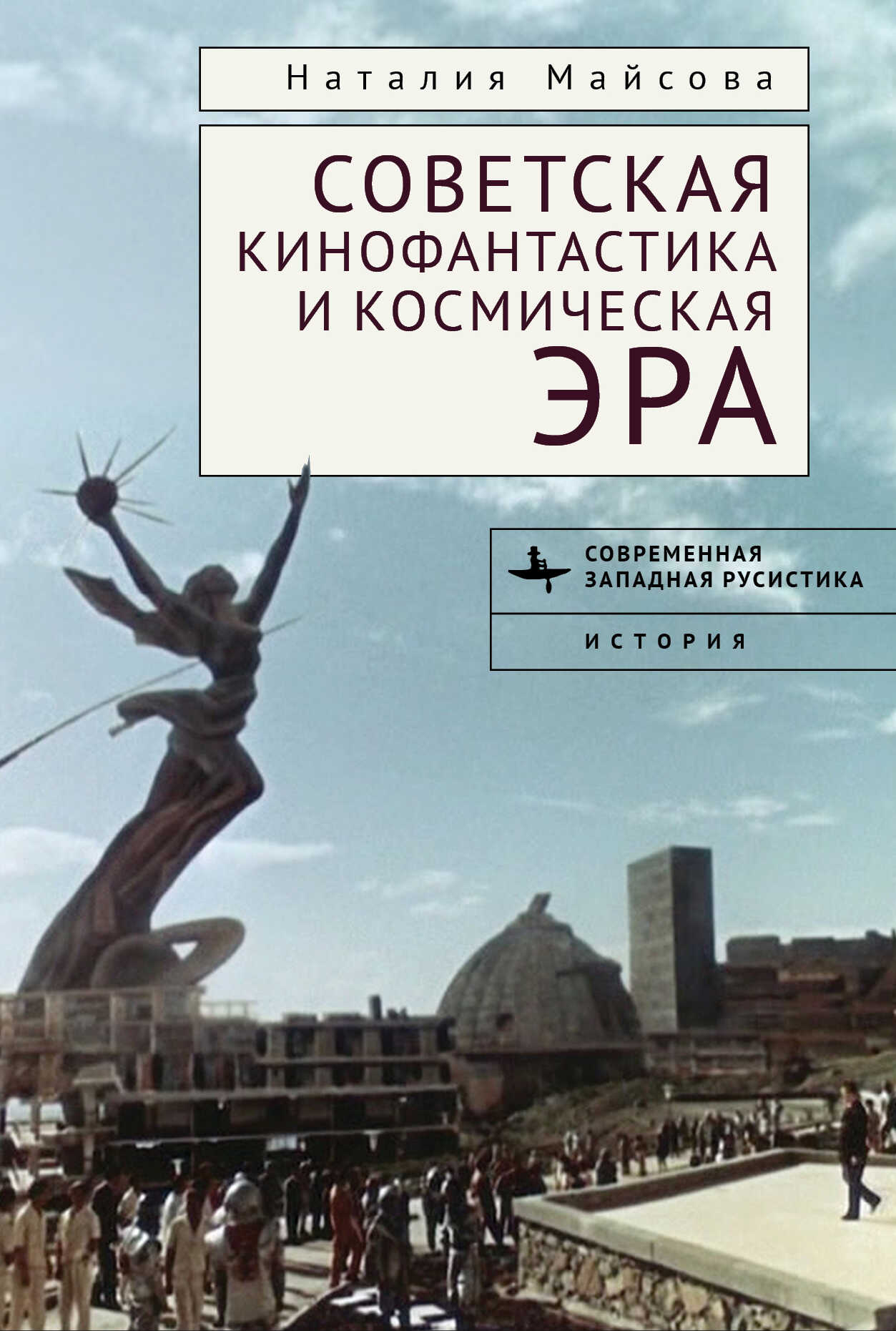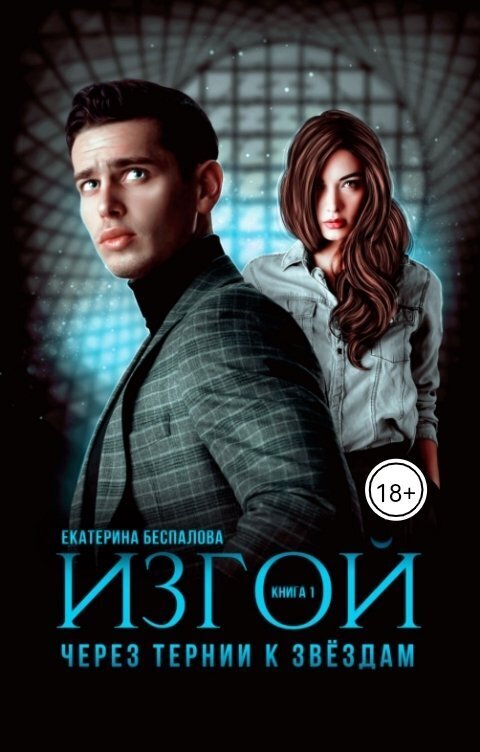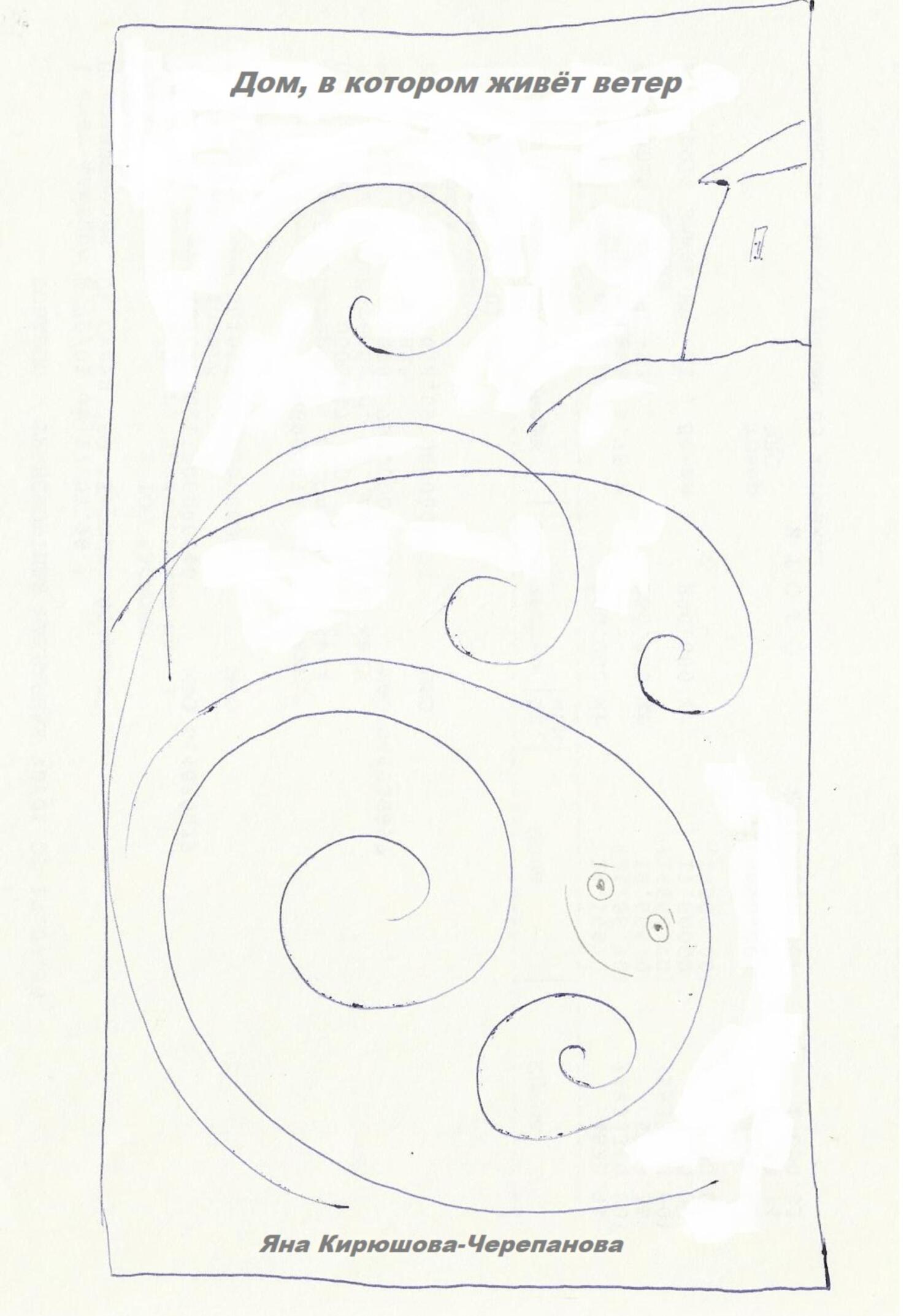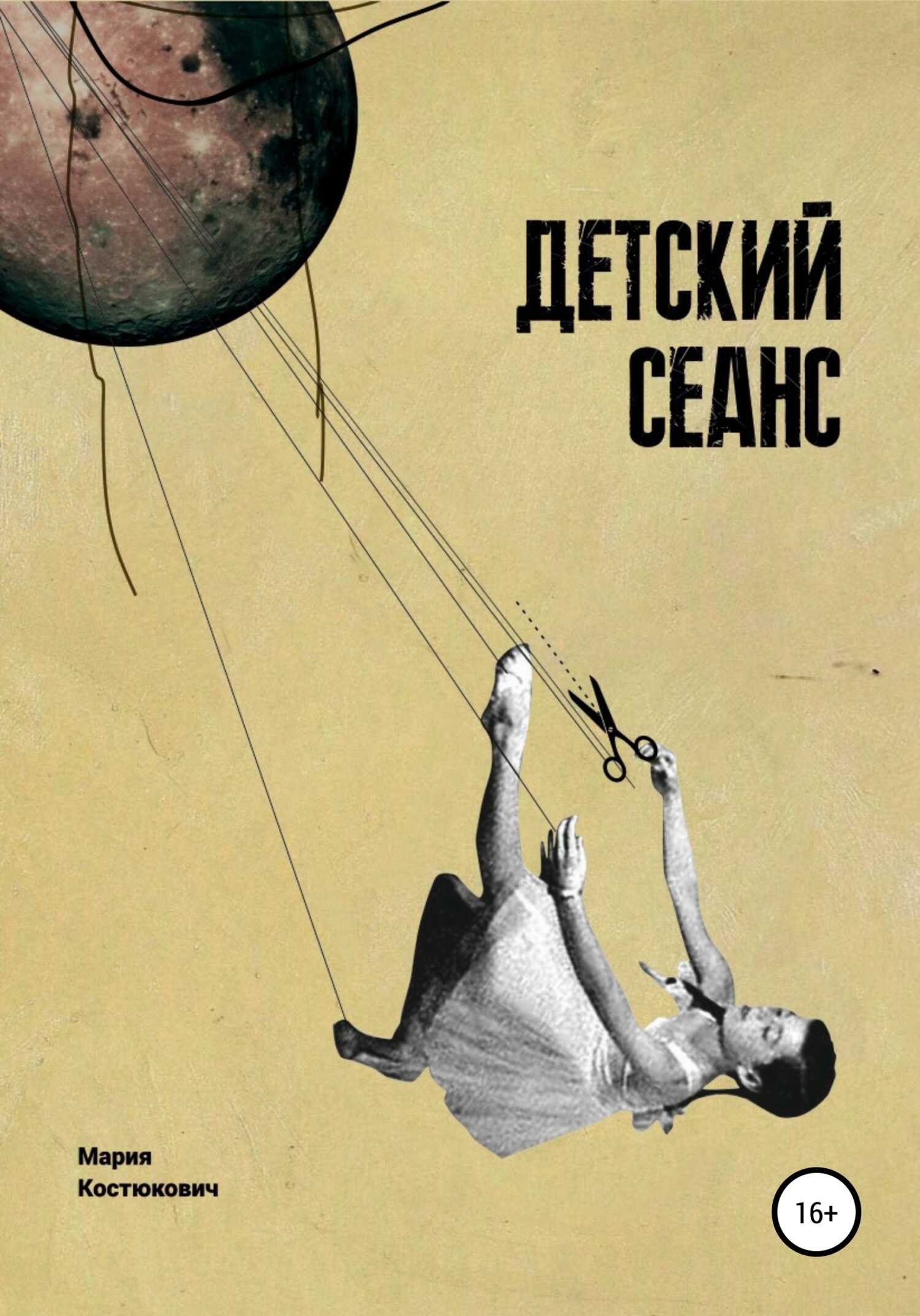Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В своей книге Наталья Майсова исследует связь между ностальгией сегодняшнего дня и утопиями прошлого в контексте космической эры XX века и ее репрезентации в кинофильмах СССР и постсоветской России. Автор анализирует структуры утопического в более чем 30 советских научно-фантастических фильмах, что позволяет отследить в них эволюцию представлений об Утопии, а также транснациональную значимость этих работ, их медийный резонанс и влияние на постсоветские фильмы о космической эре.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Наталья Майсова»: