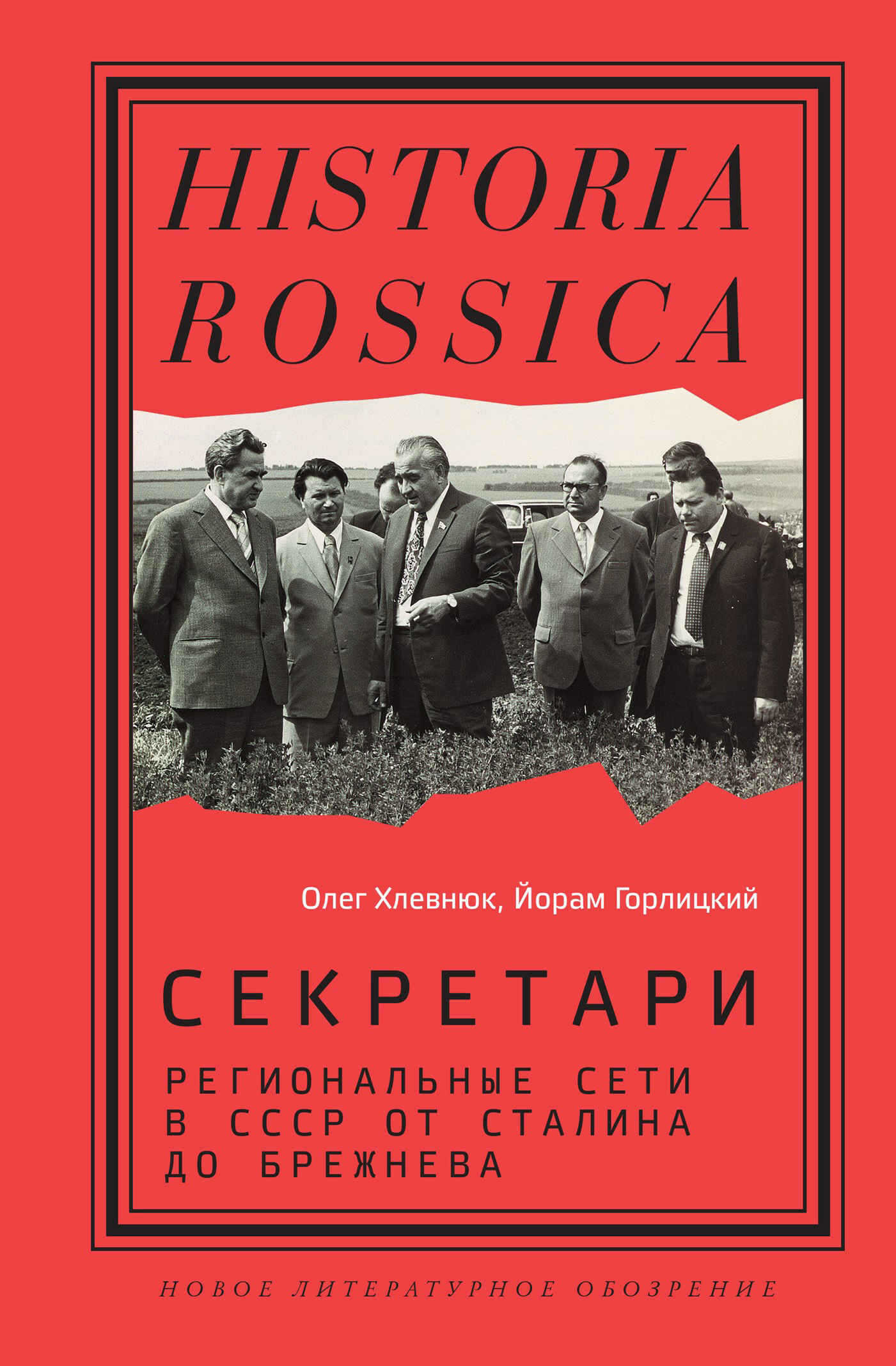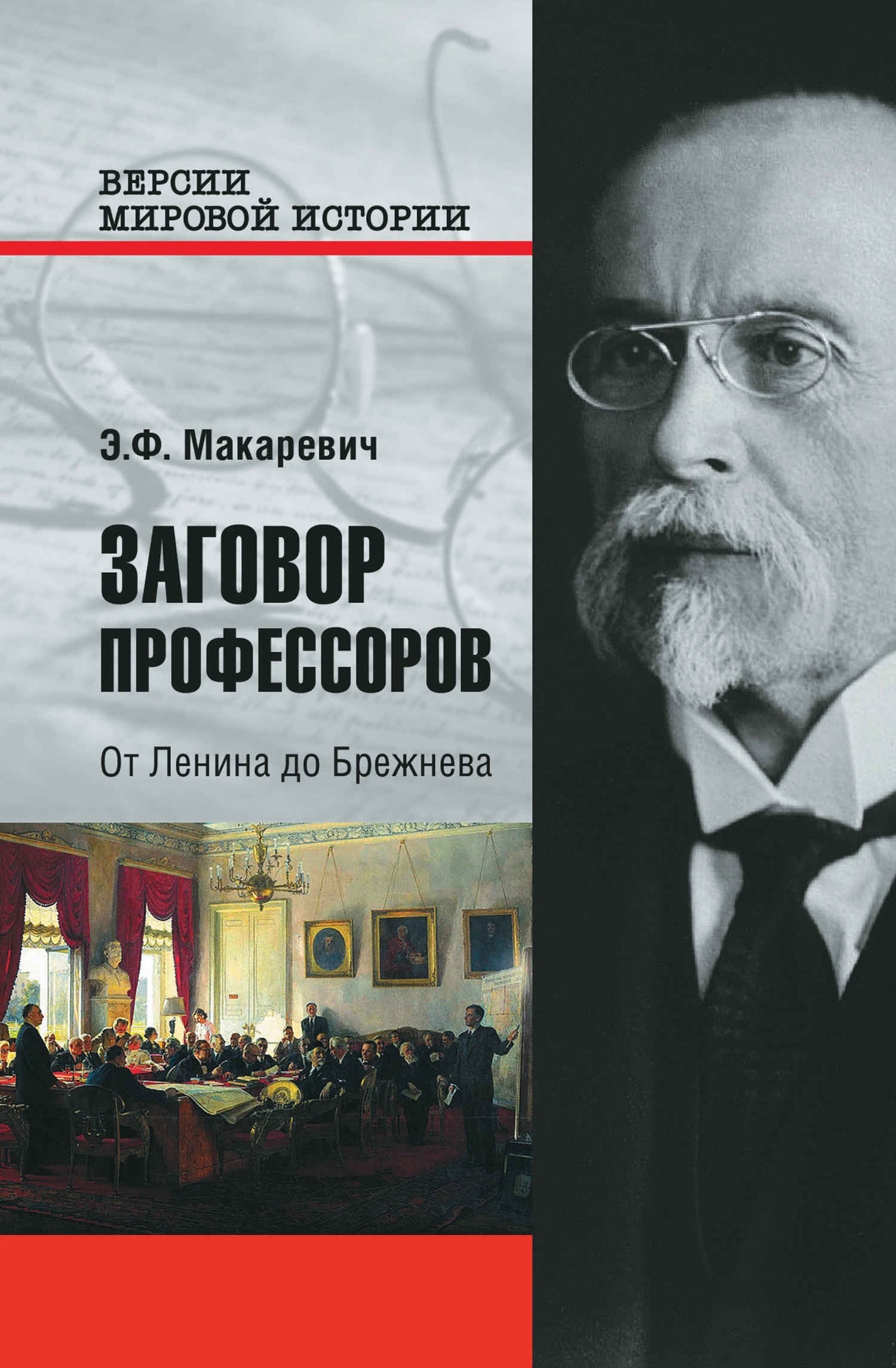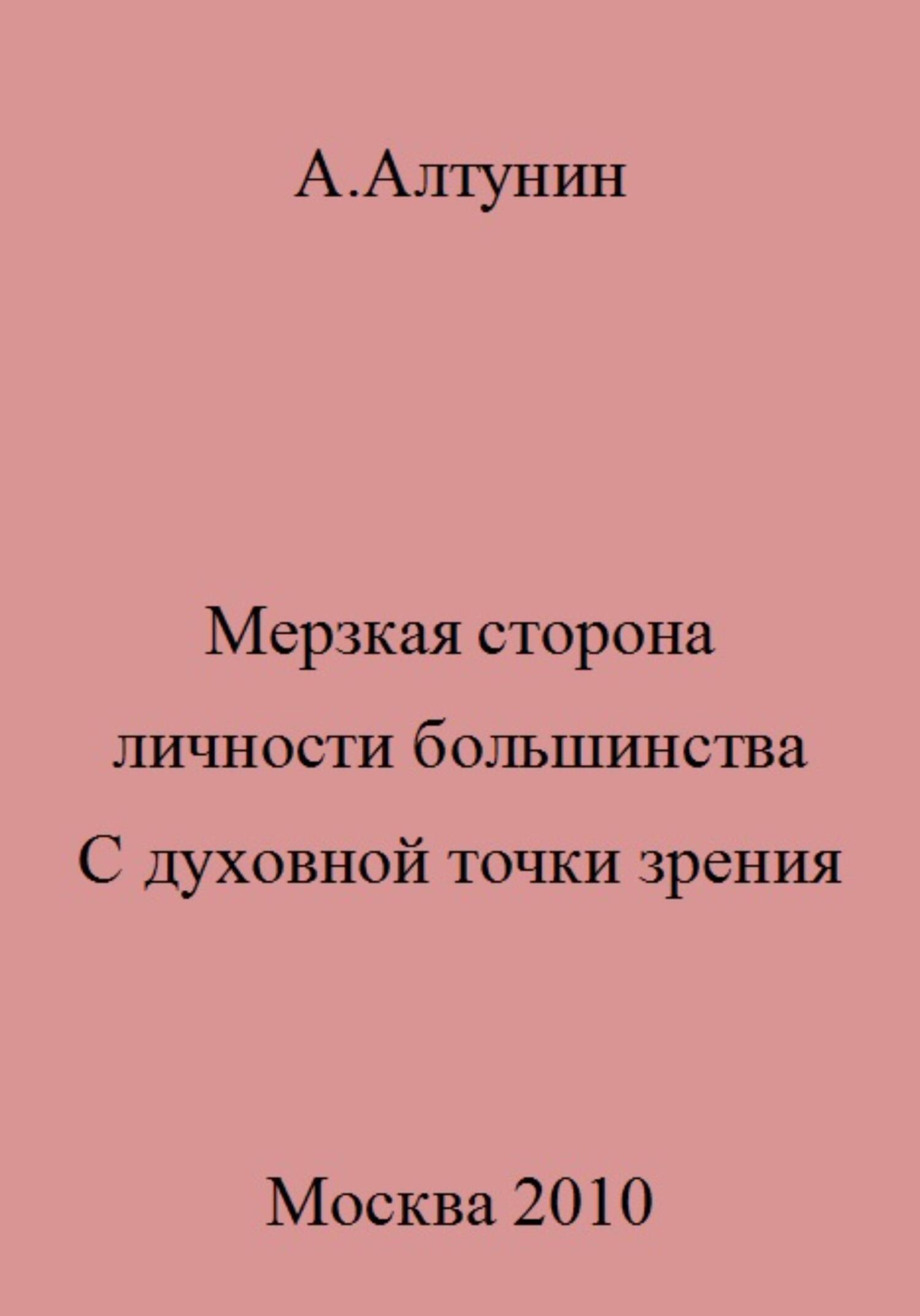Шрифт:
Закладка:
Как действуют и меняются авторитарные системы? Историки, которые исследуют личную диктатуру в СССР 1930‐х годов, часто ищут ответ на этот вопрос, фокусируясь на личности вождя. Однако Сталин не был единственным автократом в СССР: он опирался на значительный корпус низовых руководителей, прежде всего партийных секретарей в республиках, входивших в состав СССР, и региональных структурах. Олег Хлевнюк и Йорам Горлицкий обращаются к механизмам функционирования политического режима в СССР на низовом уровне и показывают, какими методами советские региональные лидеры создавали и консолидировали свои сети лояльности. Прослеживая трансформацию этих сетей на протяжении нескольких десятилетий, от Сталина до Брежнева, авторы книги демонстрируют, как низовые институты диктатуры постепенно превращались в своеобразные партийные губернаторства, основанные на консолидации региональной номенклатуры, принципах партийного старшинства, коренизации кадров, уступок этническому многообразию и недопущения конфликтов. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ. Йорам Горлицкий — профессор Манчестерского университета.