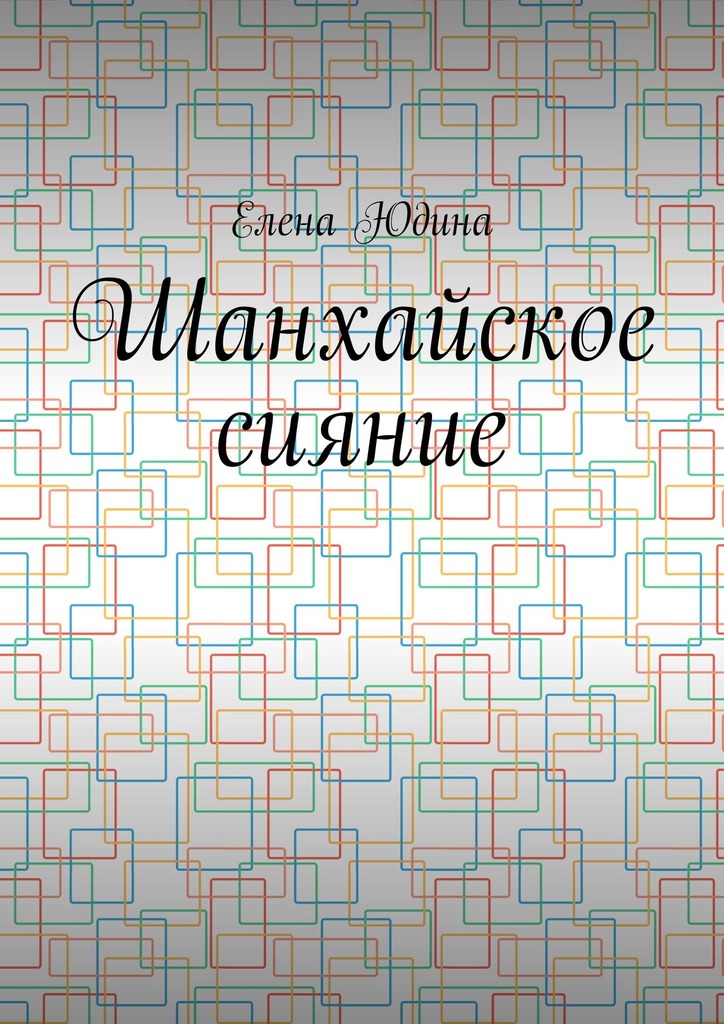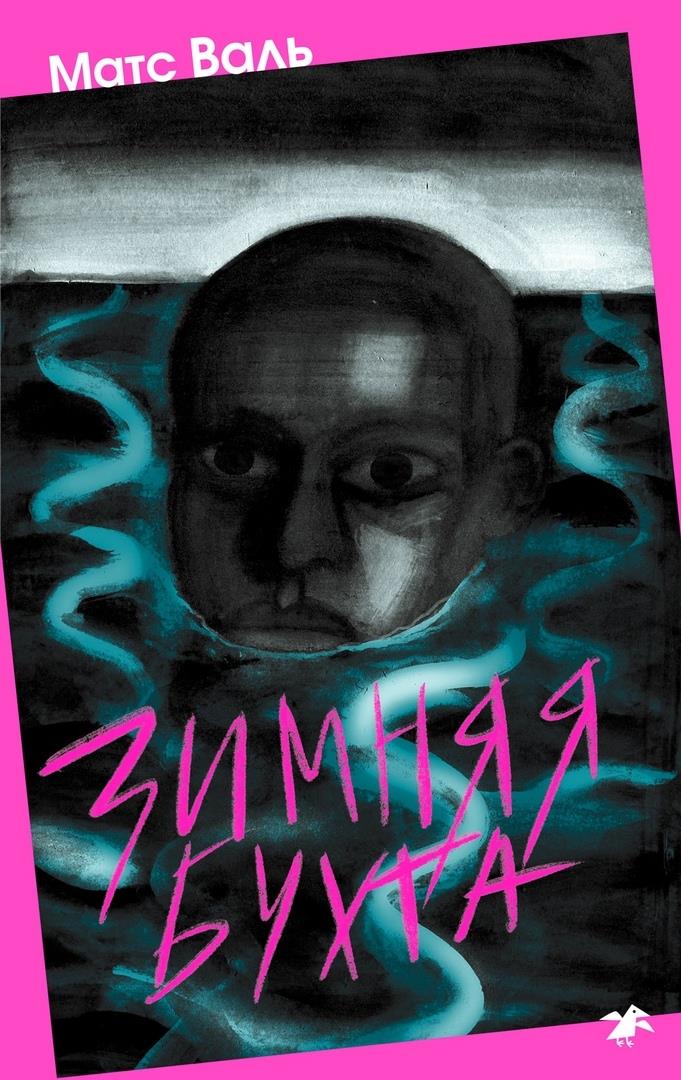Шрифт:
Закладка:
Приключенческое героическое фэнтези о человеке, который вынужден отказаться от своей уютной жизни и отправиться искать счастье среди богов, пиратов, войн и драконов.Студент. Острослов. Любовник. Авантюрист. Солдат поневоле.Вообще-то Квиллифер совсем не солдат. Он слишком обаятелен, влюблен и изучает юриспруденцию. Но все трагически меняется, он теряет семью и родной город. Сначала злой рок забрасывает Квиллифера в банду разбойников, потом интриги приводят его в политику, а затем его судьба оказывается в руках прекрасной, но коварной богини.Разгорается пожар гражданской войны, и Квиллифер оказывается в самом его эпицентре. Пусть он только солдат поневоле, в его руках возможность изменить будущее своей страны.
«Эта книга, возможно, лучшая из всех, что написал Уильямс. Она вызывает восхищение от первых страниц и до последних – остроумная, красочная, захватывающая и забавная, изысканно написанная». – Джордж Р. Р. Мартин«Захватывающая история, которая напоминает “Записки Флэшмена” Джорджа Макдональда Фрейзера – в лучших традициях брутальных приключений, обогащенная великолепным словарным запасом придуманных самим Квиллифером слов». ― Booklist«Увлекательные исторические приключения в фэнтезийном барокко». ― Locus Magazine«Автор отлично умеет создавать конфликты и сплетать сюжетные линии, благодаря которым Квиллифер попадает во все более увлекательные передряги». ― Publishers Weekly«Этот роман большой, как жизнь, и в три раза более удивительный и захватывающий». – Locus«Автор – визионер огромной мощи и оригинальности. Каждый раз чертовски хорош». – Джуо Динас