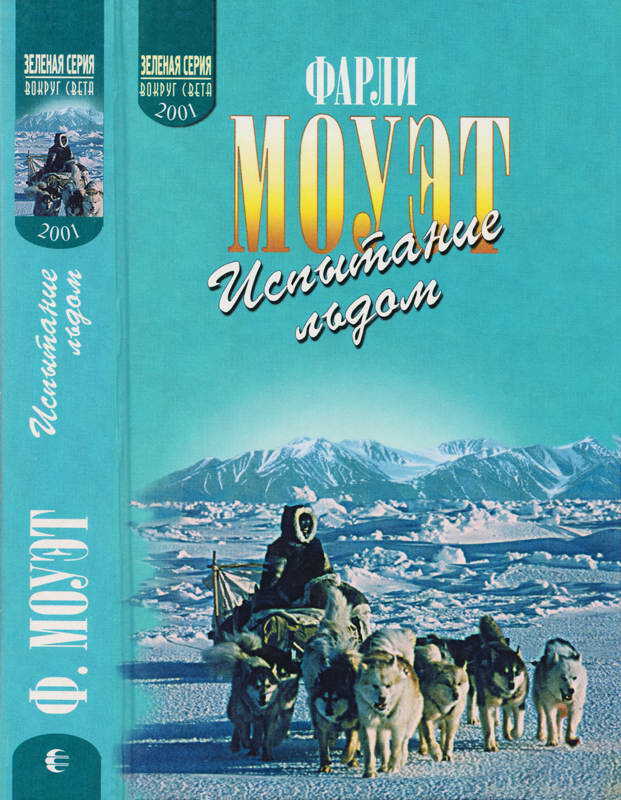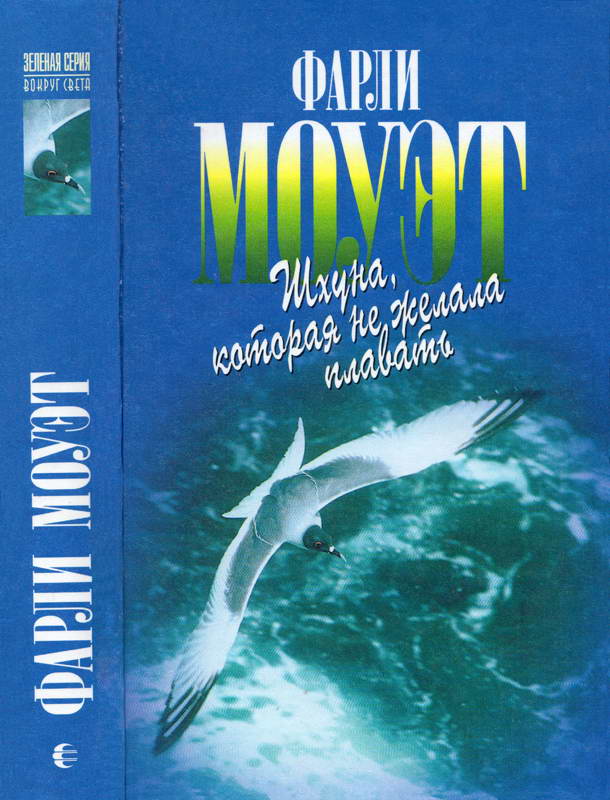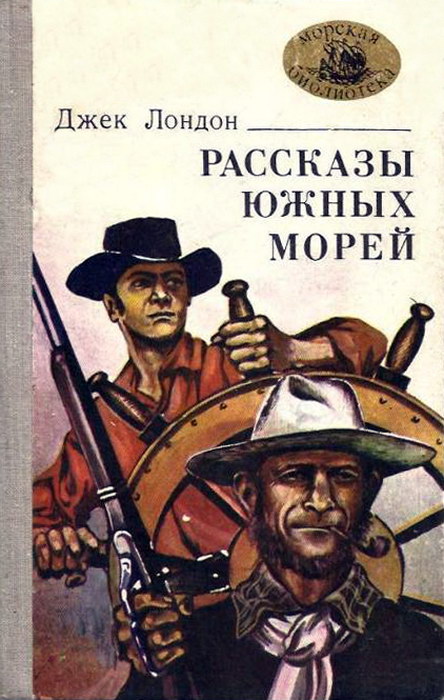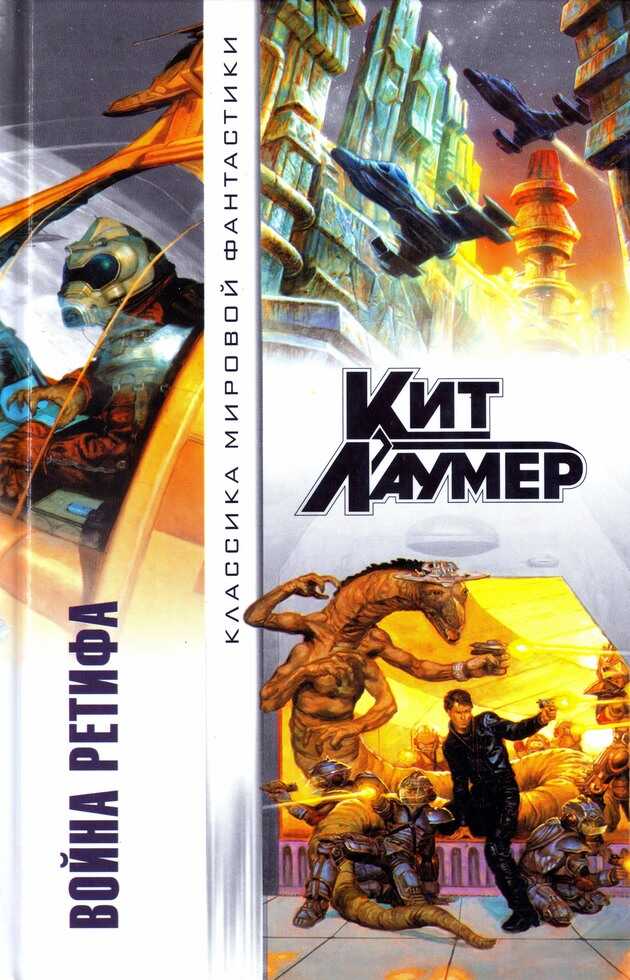Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Испытание льдом» — это сборник, составленный из литературно обработанных отчетов полярных мореходов, первооткрывателей северного морского пути вокруг Америки. Из рассказов участников полярных плаваний и ледовых походов Ф. Моуэт отобрал те, которые казались ему наиболее драматическими и ярче других изображали «битву людей со льдами».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Фарли Мак-Гилл Моуэт»: