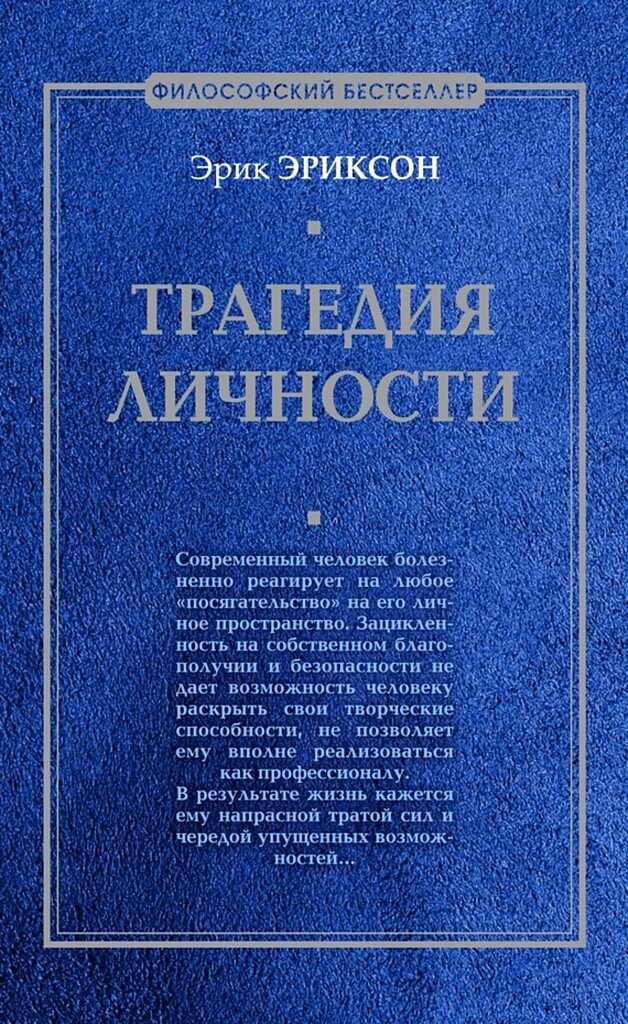Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
По мнению Эрика Эриксона, современный человек болезненно реагирует на любое «посягательство» на его личное пространство; зацикленность на собственном благополучии и безопасности не дает возможность человеку раскрыть свои творческие способности, не позволяет ему вполне реализоваться как профессионалу. Зачастую человек еще больше усиливает эту свою неспособность, ложно принимая ее за проявление индивидуальности и исключительности. Отсюда возникает конфликт между принятием «себя» и ощущением напрасности, бессмысленности прожитой жизни. В результате, жизнь кажется ему напрасной тратой сил и чередой упущенных возможностей, у него возникает чувство отчаяния…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эрик Эриксон»: