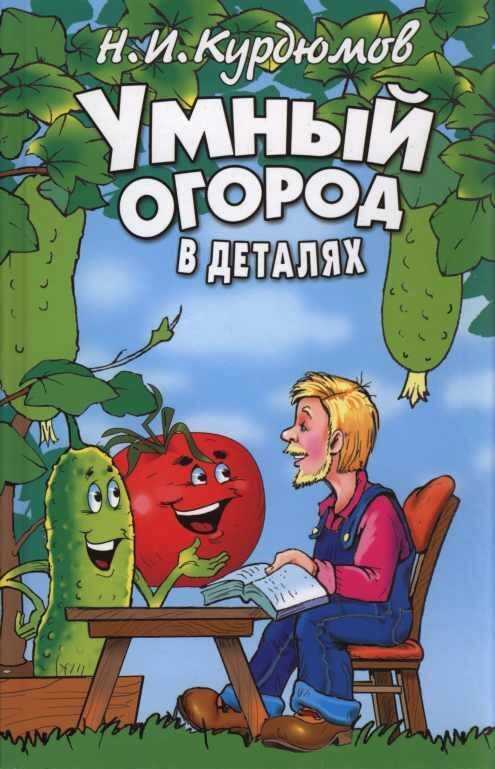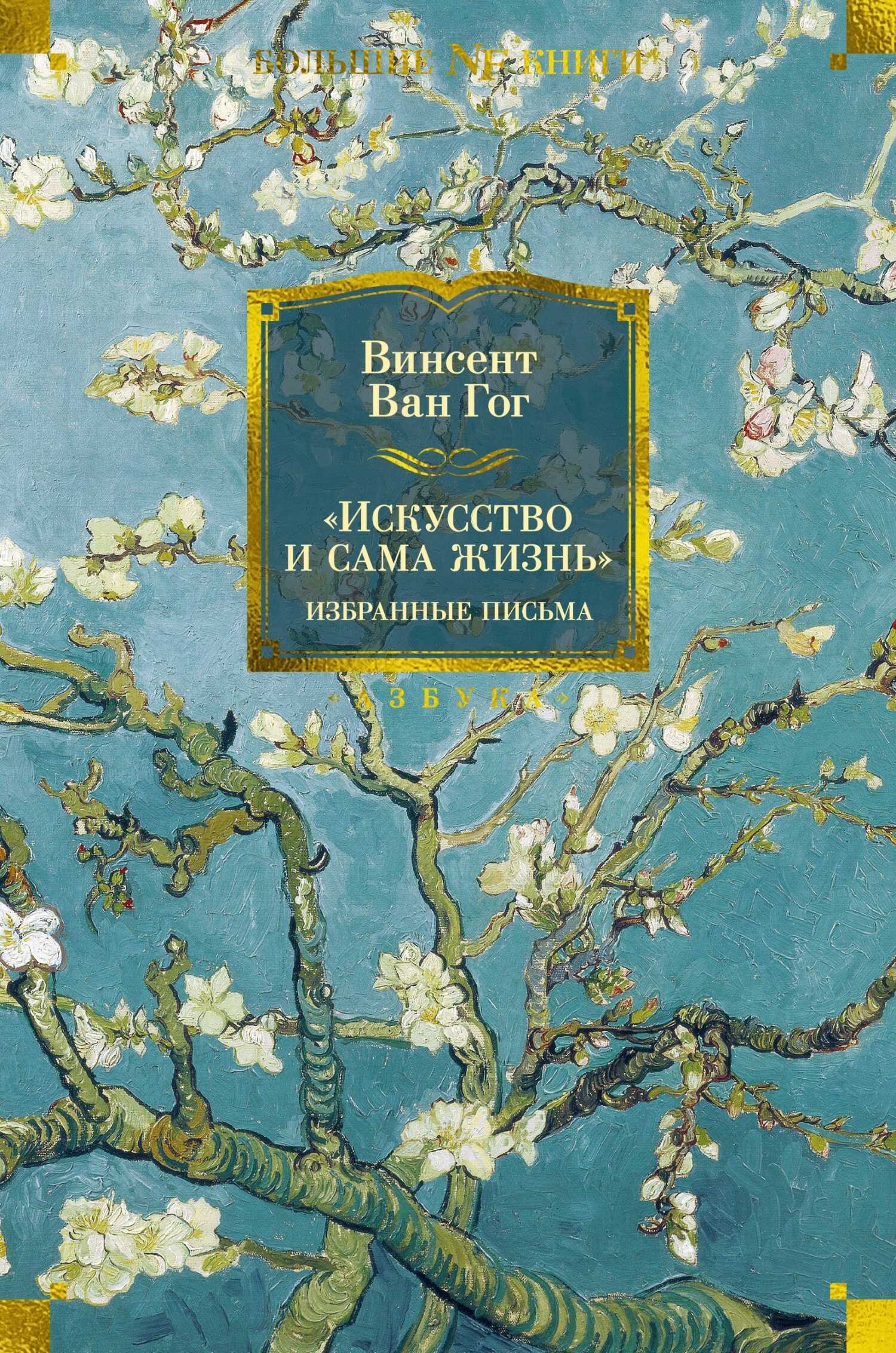Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В вымышленном районе России начала XX века происходит ограбление рудника. Для поисков похищенного золота направлен под началом отважного есаула Зорича отряд, в составе которого молодой врач Анна. Между ними вспыхивают чувства. В Приморске Зорич встречает Диану, свою первую и, как оказалось, не забытую любовь. Зорич терзается выбором: Аннушка или Диана? Убит хозяин рудника. Убийца, пытаясь втянуть Диану, подбрасывает на место преступления её брошь. Захватывающие, а порой и фантастические события, в которых смелые герои шаг за шагом приближаются к похищенному золоту.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Марина В. Кузьмина»: