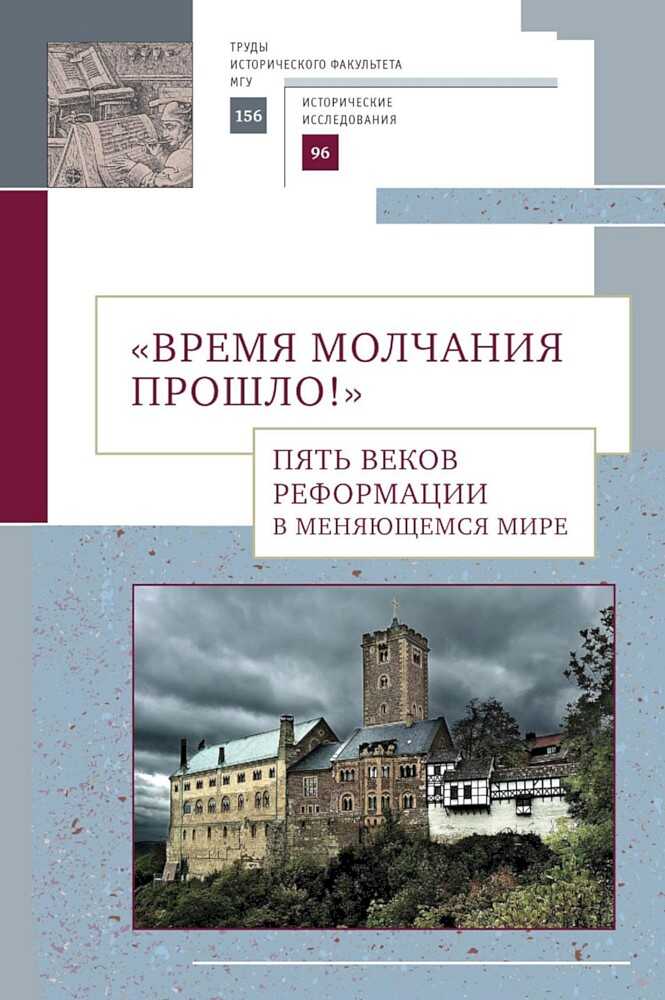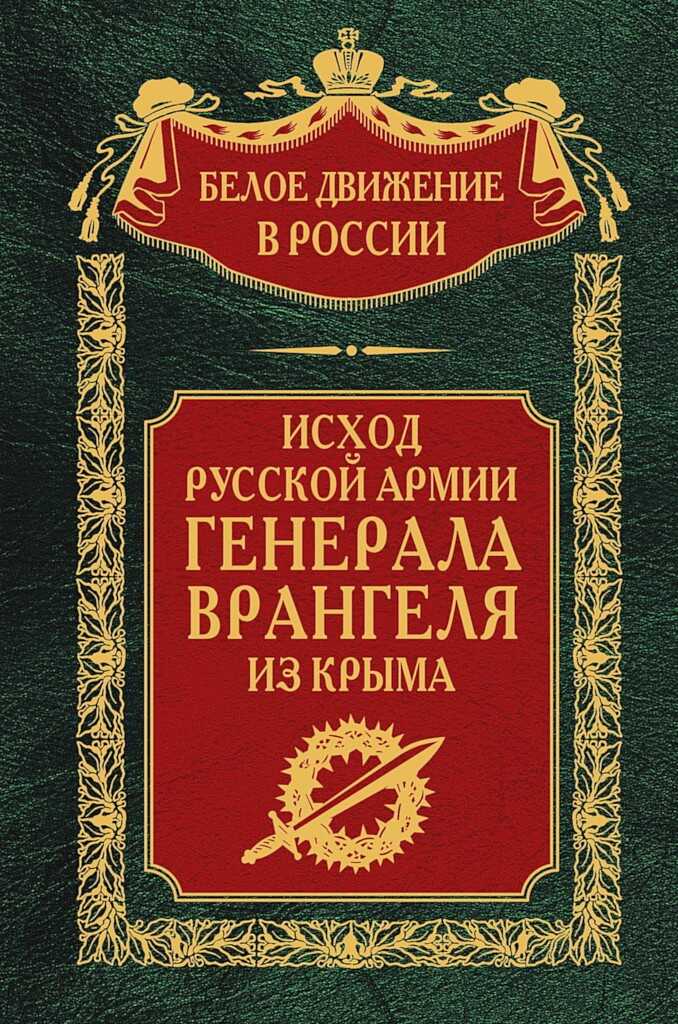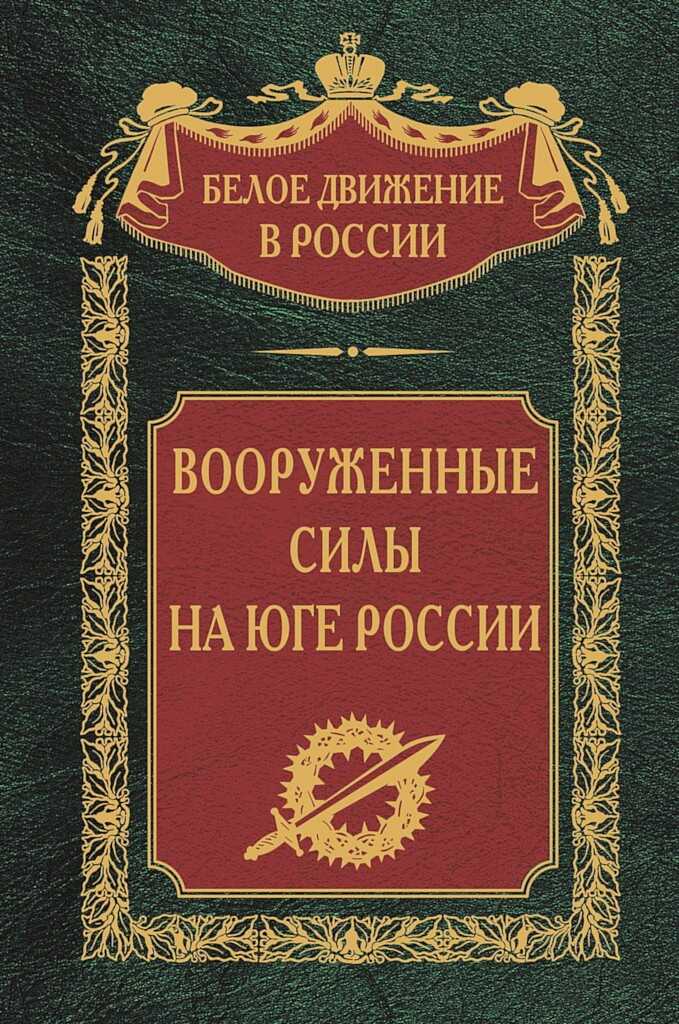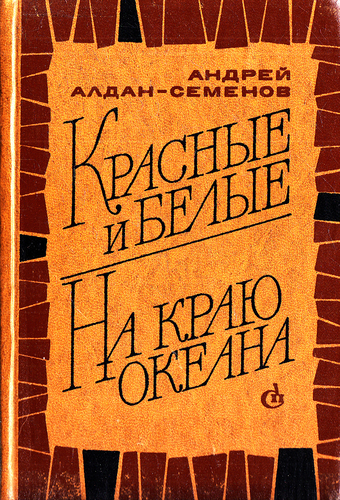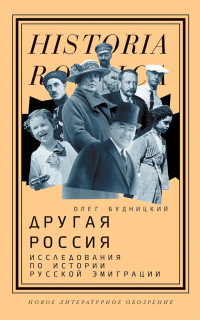Шрифт:
Закладка:
Книга представляет собой шестнадцатый том серии, посвященной Белому движению в России, и рассказывает о начальном этапе Белой борьбы на Востоке России, понимая под востоком в данном случае Волгу, Урал, Западную Сибирь. Этот период характеризовался выступлением офицерских организаций крупных городов этих регионов и Чехословацкого корпуса. Именно в это время заявляли о себе и прославились такие деятели Белого движения как В. О. Каппель, П. П. Иванов-Ринов, А. Н. Гришин-Алмазов, Н. Н. Казагранди, А. Н. Пепеляев и др. Особое внимание уделено Ижевско-Воткинскому антибольшевистскому восстанию и последующим боям ижевцев и воткинцев. Боевые действия описываются на фоне политических акций Комуча, Уфимской Директории, Временного Сибирского правительства вплоть до вступления в верховное командование адмирала Колчака, то есть с мая по ноябрь 1918 г. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми комментариями, содержащими несколько сот неизвестных биографических справок об авторах и героях очерков.