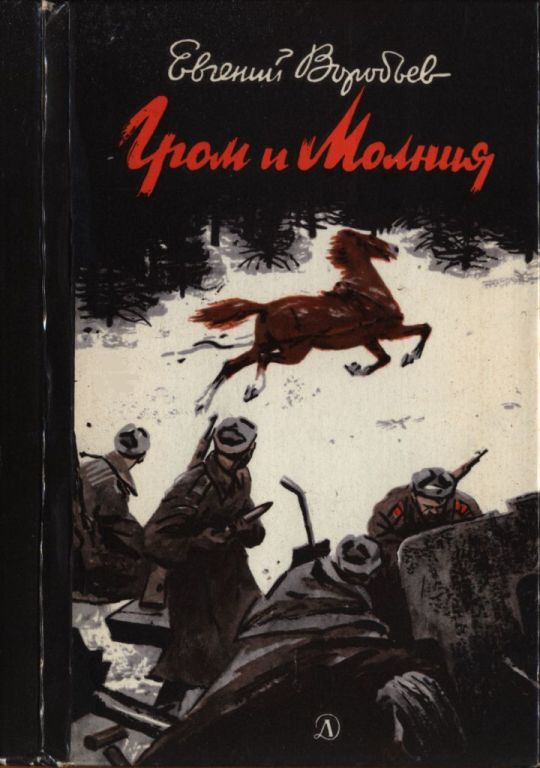Шрифт:
Закладка:
Эта книга является плодом личных наблюдений, переживаний и впечатлений автора во время его многолетних скитаний по горам и лесам Маньчжурии. Она только слегка приподнимает завесу, скрывающую от взоров культурного человека интересный мир, полный таинственной романтики и очарования. Этот мир, ныне отживающий, сохранился еще во всей своей неприкосновенности там, где стоят, нетронутые рукой человека, девственные первобытные леса и простираются на сотни километров дикие пустыни. С проникновением в край культуры, площади этих лесов сокращаются и исчезает прекрасная первозданная природа, а с нею тот оригинальный мир, который в настоящее время является реликтовым остатком древнейших эпох истории человечества. Николай Аполлонович Байков (29 ноября (11 декабря) 1872, Киев – 6 мая 1958, Брисбен, Австралия) – военный, писатель и натуралист. Перу Н. Байкова принадлежит свыше 300 работ, его имя получило международную известность. Он считается крупнейшим специалистом по маньчжурским тиграм, произведения Николая Байкова переведены на многие европейские и восточные языки.