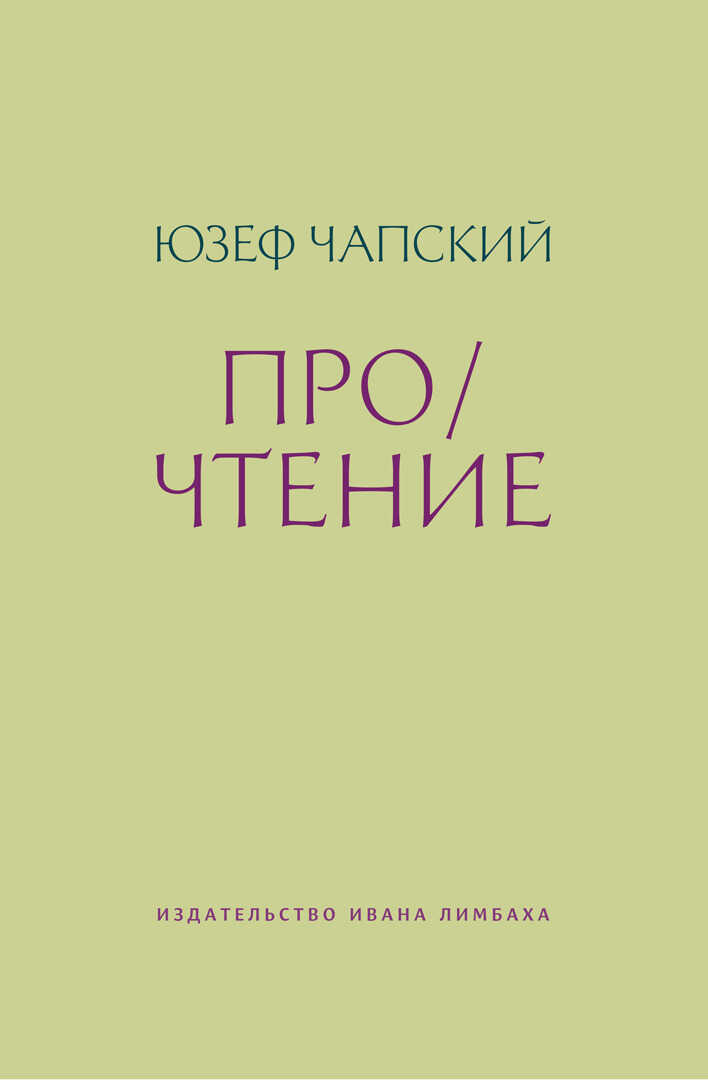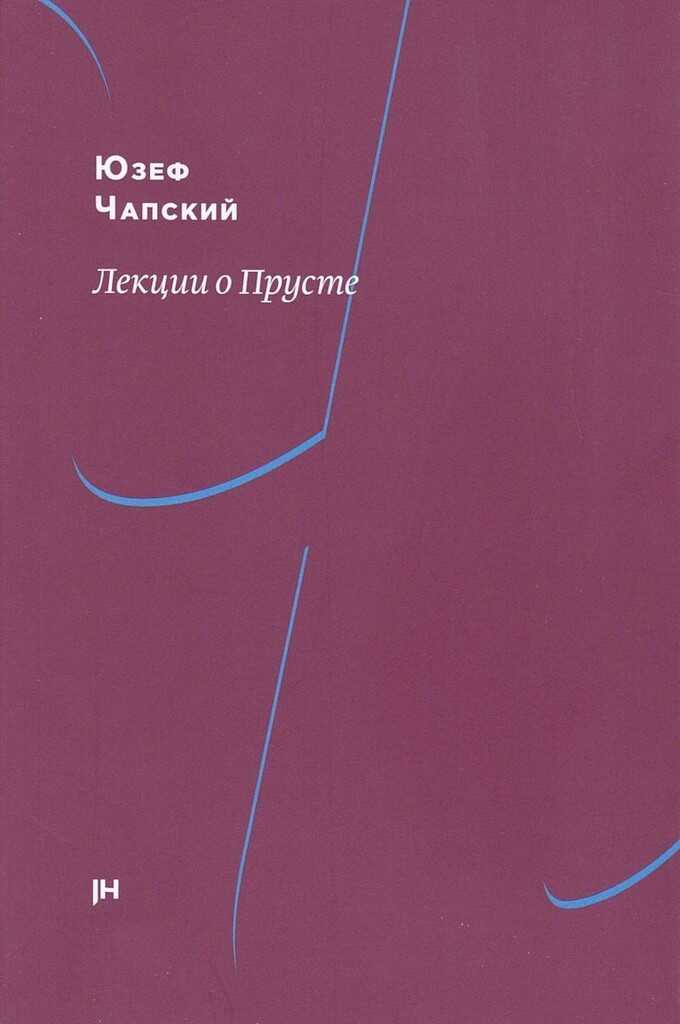Шрифт:
Закладка:
Я все еще слышу голос старушки, пани Ванькович с Бобруйщины, выметенной из своей усадебки революцией и поселившейся в 1920 году на Аллеях Уяздовских, в новой квартире, у самой площади Св. Александра. Слышу ее певучий белорусский польский: «Ах, дорогой, эта Варшава! Здесь и люди чуожие, и страна чуожая, и даже церковь чуожая».
Есть и у мысли край ее родимый
…………………………
Он краше края, что перед глазами.
…………………………..
Туда в разгар забот или забавы
Сбегаю я. Под елями усядусь,
Лежу среди пахучей буйной травы[191]…
* * *Мне уже давно стало казаться, что всяческая экзотика перестала меня привлекать. «Зачем ехать так далеко, — сказал Ренуар о Гогене, который поехал на Таити, — если с тем же успехом можно писать в Баньё?» А я бы добавил: «и в Мезон-Лаффите». Белая доска в углу коридора, лестница, приставленная к стене, лица в вагоне, везущем меня на Gare Saint-Lazare, — этого хватит. А ведь я не раз в этой последней поездке ощутил, как в молодости, как радостно сжалось сердце, как бывает при встрече с миром неожиданной, чужой, поистине экзотической красоты.
Оуру-Прету — это бразильский Вильнюс, полный барочных костелов, город, населенный когда-то двумястами, а теперь десятью тысячами человек в пустой стране, брошенной золотоискателями.
Аргентинские пампасы, бескрайние пастбища, а посреди них — образцовый приют для сотен прокаженных с опекающей их польской монахиней-францисканкой.
Ориноко — река кайманов, где у истока индейцы все еще стреляют отравленными стрелами в белых, а ближе к устью находится самый большой в мире порт транспортировки железной руды. На его месте еще пять лет назад была дикая пуща.
Миры. Сколь же многое отличает португальскую Бразилию, где индо-американские, африканские и португальские элементы создали совершенно особый этнический состав, от Аргентины или Уругвая, почти совсем европейских. Что общего у архидемократического Уругвая, спокойной, равнинной страны, где самая высокая точка — триста метров, с Венесуэлой, страной вечного лета, снежных вершин, ядовитых змей и диктаторов?
Если на вопрос «Собираетесь ли вы писать?» в начале путешествия я не знал, что ответить, потому что мне казалось, что я так мало могу сказать, то сегодня, даже поняв, что мне уже не хватит жизни, чтобы по-настоящему проникнуть в миры этого континента, я смущенно отвечаю, что хотя бы частицу этих беглых впечатлений, сцепившихся, как шестеренки, с миллионом воспоминаний, я попытаюсь передать.
195513. Толпа и призраки
Уезжая из Парижа, я вклеил себе в дневник статью из «Фигаро» — «Tumulte»[192] Андре Жоржа[193]. В ней есть такая фраза: «Не знаю, какой abbé[194] при Людовике XIII выразил опасение, что простота перемещений гужевым транспортом приведет к „упадку литературы через рассеяние умов“». Мои собственные опасения, более того, констатация рассеивания умов (моего ума) из-за чрезмерной подвижности были знакомы анонимному «аббатику» уже триста лет тому назад. Я успокаиваю себя, что бывали ведь люди, которые количество пройденных километров — пешком, по воде, на поезде или самолете (от святого Павла до Сент-Экзюпери) — умели превращать в инструмент преодоления «рассеяния умов». «Внутренняя жизнь укрепляется, рождаясь в борьбе против того, что ей угрожает», — читаю я в той же «Tumulte».
Путешествие — это еще и попытка бегства от призраков, которые, не пользуясь современными транспортными средствами, якобы всегда опаздывают, давая немного отдохнуть на новом месте.
8 мая 1955 года. — Выезд из Парижа на закате. Сквозь стекла вагона в голубой, постепенно сереющей дымке убегает россыпь пригородных домиков и островки свежей зелени, темной в этот час; вдруг среди них вырастает и исчезает мощная глыба со странными толстыми низкими трубами-башнями, скатами и сводами (разводные мосты?), завод-крепость. Красный шар солнца за ней на кроваво-оранжевом, желтом, зеленом небе, иссеченном полосами тяжелых фиолетовых облаков.
9 мая. — Утро. Авиньон — Марсель. Плен воспоминаний. Оливы разлапистые и сизые, море тихое и голубое на фоне бледного неба, год назад я узнал этот пейзаж, не такой же, а именно этот, спустя почти тридцать лет. Эти оливы на равнине за Авиньоном, редкие кипарисы и далекая гряда гор, потом Эстак («Что вы делали в семидесятом году, во время войны?» — «Писал пейзажи в Эстаке», — ответил Сезанн). Пейзаж этот навсегда врезался мне в память с тех пор, как я впервые увидел его с капистами[195]. Все мы были помешаны на Сезанне и Ван Гоге — их земля.
Ривьера. Романтика, утыканная отелями. Розовые и лиловые горы, стекающие в бирюзовое море, гладкое, как оливковое масло, белые лодочки и паруса. Как же долго я не был в согласии с этим пейзажем, словно слишком счастливым по человеческим меркам. Счастье с открытки. Годами я был не в состоянии «увидеть» его, как ни хотел, не мог писать его, а когда писал в тех местах — отворачивался от моря. Я рисовал уродливые дома с огромными афишами на стенах, дровяные сараи, огороды на задворках. Год назад я этот мир вдруг разглядел, но в ту же секунду он утратил свою нереальную романтичность, стал прекрасным, брутальным, иногда трагическим или победно лучезарным. Глядя на мои картины, люди не раз возмущались, вспоминая эти места в единственной доступной им форме — форме разноцветной открытки, счастья, рассылаемого по всему свету якобы всегда счастливыми туристами.
Канны. Корабль только что пришел из Генуи. Качается на волнах большая белая цацка с красной полосой на трубе и зеленой там, где касается волн: «Julio Cesare». Я не умею