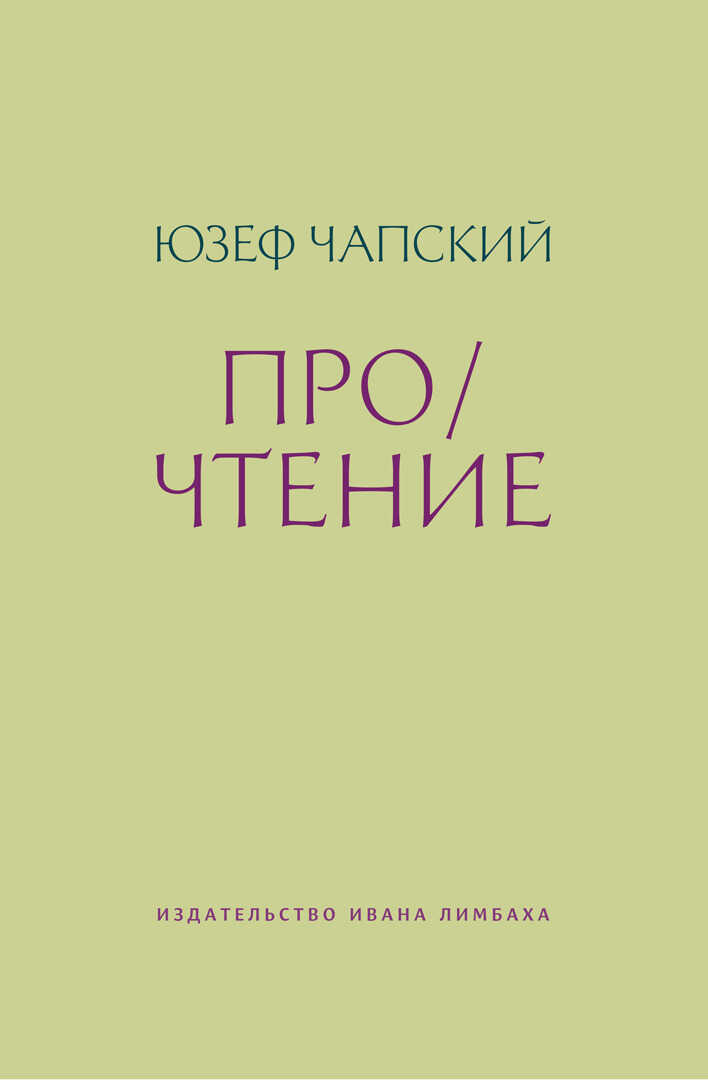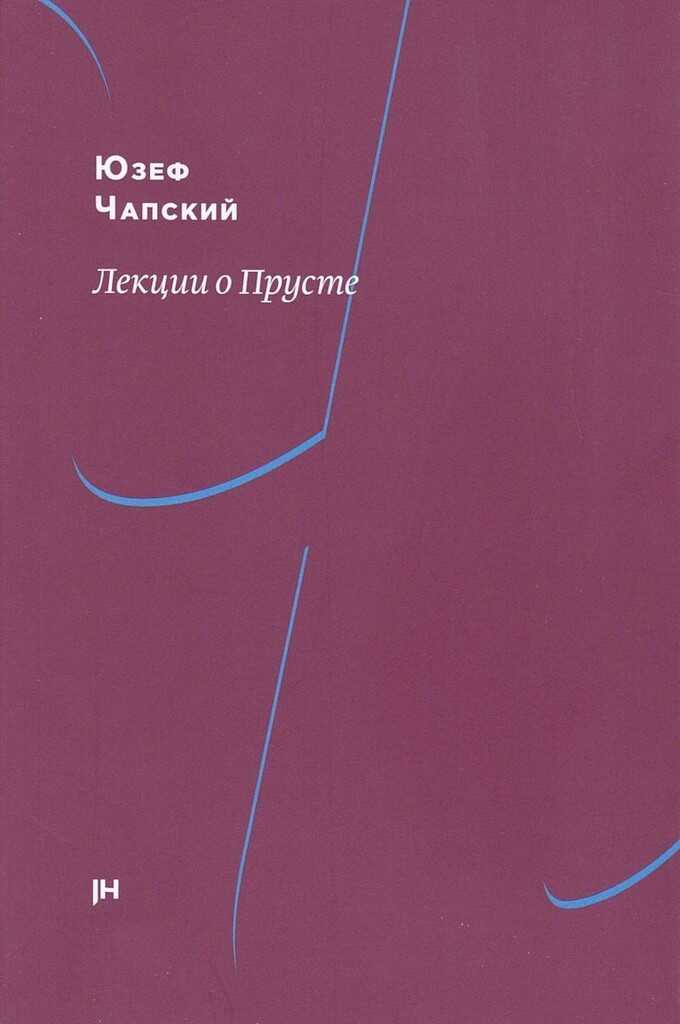Шрифт:
Закладка:
А ведь аура последней книги все та же, «мориаковская», — мир людей, тонущих в огненном потоке всевозможных страстей, преступной ненависти и фарисейского лицемерия, по сравнению с которыми «окрашенные гробы» из Евангелия кажутся почти что добродушными.
Змеиное гнездо или самоотречение — только таким видит мир Мориак. Он мог бы повторить вслед за Жубером: «Во всем мне кажется, что мне не хватает промежуточных идей или что они для меня слишком скучны».
Есть только одно спасение, в котором писатель никогда не усомнился, только одно окно к свету — это святость, полное самопожертвование и невинная жертва агнца. В «L’Agneau» агнец — Ксавье. Накануне поступления в семинарию он отказывается от своего решения, чтобы спасти пару существ, которые случайно (случайно ли?) встречаются на его пути, и в итоге гибнет, тоже случайно, то ли его убивает из зависти Жан Мирбель, то ли он сам лишает себя жизни, не способный вынести зла, бессильным свидетелем которого становится.
Книга полна недосказанностей и мрачных недомолвок. Никогда еще Мориак не писал так сжато, даже без описаний запахов и звуков; обычно они придавали колорит его прошлым романам. Здесь автор ни в коем случае не пытается «поменять кожу» в стремлении по-новому завоевать читателя, он лишь отшлифовал свой стиль до сурового лаконизма. В настоящем змеином гнезде, как брильянт, как слеза, сияет фигура раненого, уязвимого и одновременно спасительного персонажа — агнца.
Изображенный с незабываемой нежностью, тайной, робкой нежностью Ксавье — брат «Сельского священника» Бернаноса.
* * *Но, кроме «L’Agneau», Мориак преподнес в этом году и еще один сюрприз — «Bloc-notes» в «Экспрессе». Напор статей писателя в «Фигаро», казалось, ослабел, хотя и тут некоторые тексты этого года («Torture», например) относятся к лучшим образцам. Из «La Table Ronde» Мориак, основатель этого журнала, вышел, жалуясь на внутреннюю цензуру, которая во Франции всегда вступает в игру, когда писатель затрагивает определенные силы. И вдруг в «Экспрессе», журнале, продвигающем сильнее всех Мендес-Франса[178], «Bloc-notes» Мориака приобретают силу, дыхание, небывалые ранее. В них писатель мгновенно реагирует на актуальные события во всех областях: кризис, политика Франции, Мендес-Франс, благородно и страстно защищает Марокко и Тунис от той политики, которую Франция до сих пор проводила в этих странах, и все это в сочетании с размышлениями, откровениями религиозной природы, порой самыми интимными. Мориак записывает, что переживает, приступая к Причастию, или факт, что не причащается из-за боли в горле. Жид делал признания сексуального толка, Мориак его превзошел — он делает религиозные признания.
Чоран написал замечательную вещь: «La fin du roman»[179], где в наводнении современной любовной литературы усматривает конец этого жанра. Будь я Чораном, я написал бы второе эссе о конце того, что мы привыкли называть «journal intime[180]». От написанного только для себя, чудесного в своей скромности дневника Мен де Бирана, от жестокого дневника интеллектуала Бенжамена Констана, написанного отчасти греческим алфавитом, чтобы никто в него не залезал, от стыдливого пастельного «Journal intime» Амьеля до Жида (о своем дневнике сам Жид писал, что с тех пор, как начал его печатать, тот стал как нескромный приятель, которому нечего сказать), до прекрасного — хоть и раздражающего своей завзятой дотошностью — дневника Дю Бо, вычурного — Жюльена Грина и, наконец, «блокнотов» Мориака, которым автор даже не дает отлежаться, сразу отправляет в типографию, чтобы все, все читали, как Мориак сердится и молится. Об этом можно было бы написать несколько… язвительных страниц.
В «Блокнотах» писатель все силы бросает на защиту дел, кажущихся мне правыми и правейшими, но я не припомню, чтобы когда-нибудь его перо окуналось в такой отвар из полыни и стрихнина.
«Бог дал мне талант ехидства (méchanceté), я должен им пользоваться», — сказал якобы как-то Мориак.
Во «France Catholique» анонимный автор открытого письма, сторонник, как и Мориак, правительства Мендеса, выражает опасение, что история с «Блокнотами» скорее навредит Мендесу, чем поможет. Все, кого Мориак взял на мушку, больно и пренебрежительно толкнул, ранил, обличил своей неделикатностью, остроумно рассыпанной по страницам «Bloc-notes», презрительно похлопал по плечу или кому даже напрямую пригрозил, не забыв добавить в обращении неизменное «cher»[181], — все они объединяются, смыкая ряды, и только и ждут, как бы отомстить тем, кого Мориак защищает, — отомстить за Мориака.
* * *На полях — проблема более общего характера, для которой я не могу найти решения. Почему католические писатели (не только французские, потому что и Новачиньский[182], кажется, считал себя католическим писателем) занимают такое видное, даже, наверное, первое место в искусстве памфлета и пасквиля? У Мориака были великие предки: Блуа прежде всего, но и Бернанос! (хотя в львином рыке последнего мне всегда слышалось некое добродушие).
Как же так получается, что чем сильнее писатель подчеркивает свое католичество, а значит, христианство, писатель, который в каждой статье упоминает Бога — не Бога ацтеков, а Бога Любви, более того, писатель, который создал, вывел из себя персонажа святого, как же этот писатель чувствует себя вправе быть таким агрессивным в полемике.
Если бы Гомбрович, никогда не называвший себя христианином, более того, заявляющий, что он «свободен, свободен etcetera свободен», потому что «утратил Бога» (у Ницше Бог умер, Гомбрович его лишь «утратил»), если бы тот же Гомбрович написал, что собирается поджаривать людей на медленном огне или живьем пожирать тех, что поглупее, я мог бы счесть это логичным, но Мориак с Богом на устах и молитвенником в кармане?
Ведь он обязан следовать тому, что читает в своем молитвеннике, например, если вслепую выбрать из тысячи подобных: «Кто говорит: „я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»
* * *Перед самой отправкой этой статьи в «Культуру» я читаю последний прекрасный «Bloc-notes» Мориака. Он, наоборот, написан «пером, обмокнутым в небо» и, кажется, отвечает на мои сомнения. Мориак пишет: «…те, кто способен ненавидеть лишь потому, что способны любить». Это объясняет и памфлеты, и пасквили, но не оправдывает писателя, подчеркивающего свое христианство. Это было бы слишком просто. «Широк человек, слишком даже широк, — сказал