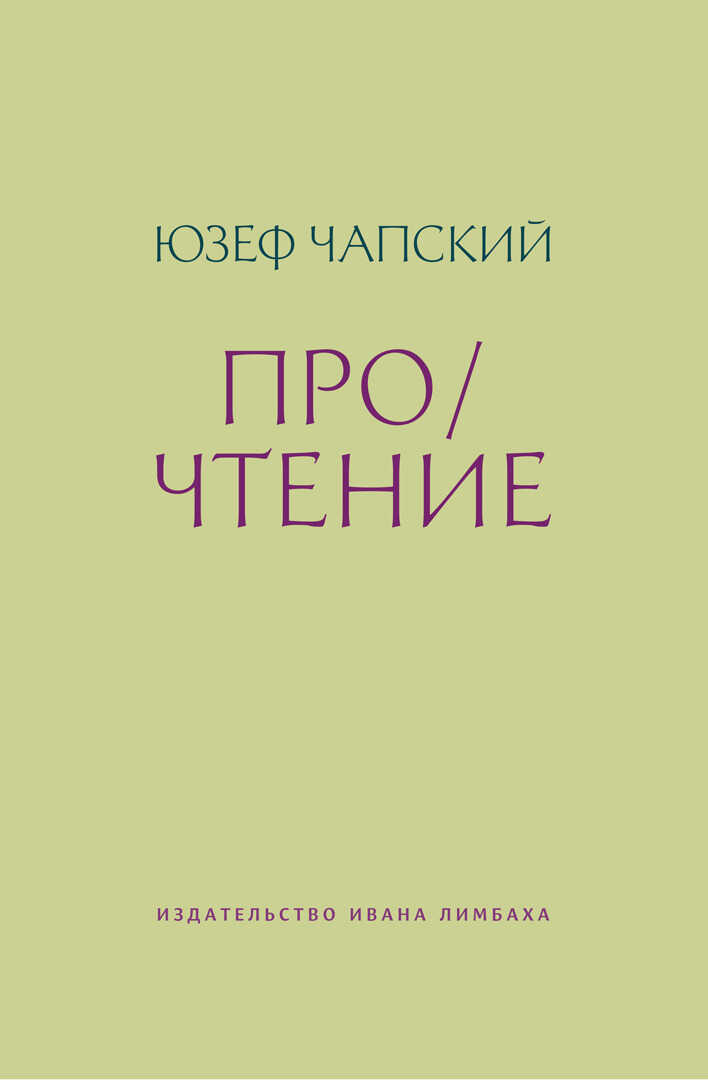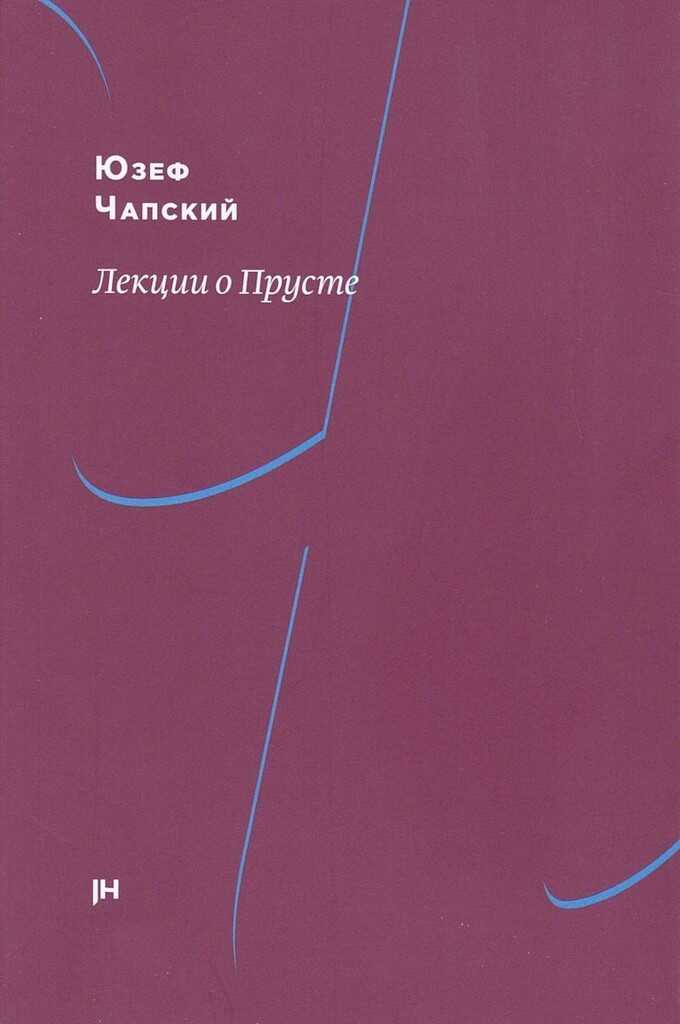Шрифт:
Закладка:
Навещаю в третьем классе пару венгерских эмигрантов. Еще семь дней назад они были в Будапеште. Шестидесятипятилетняя старушка — вдова, как она говорит, высокопоставленного чиновника времен Австро-Венгерской монархии. Объясняет, что по чистой случайности едет третьим классом, сын охотно оплатил бы второй или первый. Рассказывает, как страдают в Венгрии «высшие сферы» (она) и «низшие тоже» (добавляет походя). Она из Трансильвании, и до сих пор с жаром и нескрываемой ненавистью говорит, что край отдали румынам, которые «даже читать не умеют, в то время как мы, мы в Трансильвании, — интеллигенция». В ее времена в школах кроме венгерского преподавали французский и немецкий. «Теперь учат по-русски», — добавляет она с пламенным презрением. Я больше для себя замечаю, что важно, что по этому каналу будет идти не только большевистская пропаганда, но и великая русская литература, другой культурный круг.
«Культурный? Aber das ist zum Lachen. Die Russen haben keine Kultur und nie eine gehabt»[202].
Молчу. Насколько же легче делать выводы при таком упрощении. Эта старая женщина, с перстнем в потемневшей старой оправе на жилистой сморщенной руке, в потоке бедных, почти сплошь старых людей, которым разрешили уехать, говорит скрипучим голосом о своем превосходстве и превосходстве якобы лучшего, «высшего» класса Венгрии. Сколько в ее речи непоколебимой гордыни, национальной и общественной. Тот же тон спокойной уверенности был у госпожи X., ее ровесницы, которая в похожих условиях приехала в Польшу. Не только советская пропаганда, но и все перемены последних лет только укрепили ее старую, теперь уже окаменевшую иерархию ценностей, сочетающуюся с полной идеализацией прошлого. Поэтому рассказ о Венгрии А. Эстерхази, молодой девушки, которая была рабочей и сидела в тюрьме, ведется совсем другим тоном, гораздо более человечным[203]. Почему молодой П., который, как и Алис Эстерхази, подвергая себя опасности, бежал из Польши, рассмеялся, когда его спросили о «высших сферах», причисляя его к ним. Как же отличается оппозиция этой молодежи и насколько же она опаснее для режима.
12 мая. — Ни кусочка суши. Небо тяжелое, серые бесформенные облака, но море тишайшее. Полил короткий теплый дождь, как будто небо вдруг разверзлось, и прошел. Заплутавшая сизая птичка размером с синицу, совершенно обессилевшая, зацепилась за канаты, вдалеке одна ласточка, и на горизонте на востоке белый парус. И всё. Сегодня итальянский цветной фильм. Всей толпой, с прилежанием, достойным лучшего применения, идем [на него], как на все заранее заготовленные развлечения на корабле, всякие конкурсы, матчи и «сюрпризы». Выхожу посреди сеанса, так мне противен не столько сам фильм — немного голых ног и примитивнейшие американско-итальянские цирковые номера, — сколько покорность пассажиров, с благодарностью потребляющих все, что положено потреблять. Только С. идет своим путем. Часами лежа в шезлонге, изучает португальский: читает. Приятно смотреть на это уже немолодое лицо в очках в тонкой оправе, сосредоточенное, отстраненное и всегда спокойное. Его не затрагивает водоворотик общества. Он говорит, что родом из пасторской семьи на Рейне. И еще несколько монахинь живут тут совершенно другой жизнью. Едут из Италии в аргентинские монасты-ри. Их видно в часовне или, изредка, на палубе, когда они в огромных черных рясах с вышитым красным сердцем на груди неуклюже ходят группами, словно отделенные от нас невидимой границей.
Несмотря на бунт против Абеллио, я увлеченно читаю «Heureux les Pacifiques». Сколько прекрасных проницательных замечаний. Речь о посвященности. Инстинктивно примеряюсь, на какую shakru, ступень посвящения, я мог бы претендовать, и прихожу к печальному выводу, что ни на какую, кроме низшей, хотя, мне кажется, у меня есть «выходы» к нескольким. Д. всегда меня упрекал, что я читаю мистиков. «Мистиков надо делать, а не читать».
13 мая. — Шестой день. Два дня пытаюсь рисовать, и по-прежнему в рисунках нет ничего, это даже не упражнения, а манерничанье. Не лучше ли в таком случае перестать, или принуждение, дисциплина в таких делах не мешают? Вдруг пара живых линий, не только усилие взгляда и руки, но и переживание. Или только тогда можно рисовать? Нет. Нужна и работа «с грустью в глазах», а иначе — ожидание вдохновения глупых художников из Макушиньского или, в лучшем случае, écriture automatique[204] сюрреалистов. «Рисуйте линии, много линий, и будете художником», — сказал как-то Энгр молодому Дега. Что чувствовал Дега, рисуя и стирая до дыр в бумаге и калькируя до восьми раз, чтобы еще и еще углубить один и тот же рисунок? Он ответил бы нам то же, что ответил [Полю] Валери: «Это не было бы так забавно, если бы не было так скучно».
Подходим к Дакару в шесть часов вечера. Солнце все еще слепит. Душно. Берег плоский, словно из серо-бурой высохшей глины, огромная глыба какого-то здания, как будто Корбюзье, ослепительно-белого. Море голубое и зеленое. Впервые с начала поездки по-настоящему жарко. У нас всего пара часов, чтобы посмотреть Дакар. Чтобы не терять времени, беру такси. Ко мне подсаживается румын. Светлые глаза навыкате, мясистый нос, грузный и нахальный. Нас везет негр, черный как смола, тонкокостный, почти юноша, в белом хитоне. Мой товарищ тут же начинает расспрашивать, просит показать, где можно «спать с женщинами», где публичные дома. Негр, свободно говорящий по-французски, хотя и не умеет читать, потому что не ходил ни в какую школу, отвечает, что, как началась война, все эти учреждения закрыли, и на все настояния предприимчивого румына только добавляет с достоинством, что это невозможно, разве что румын сам знает здесь каких-то женщин. В этом случае — да, иначе — нет. Сам он, впрочем, ничего об этом не ведает, он мусульманин, у него жена и двое детей.
Первые впечатления от города ужасные: как будто липкие от жары улицы-свалки, по которым носятся ворохи грязной бумаги, между белыми снуют негритянки в больших