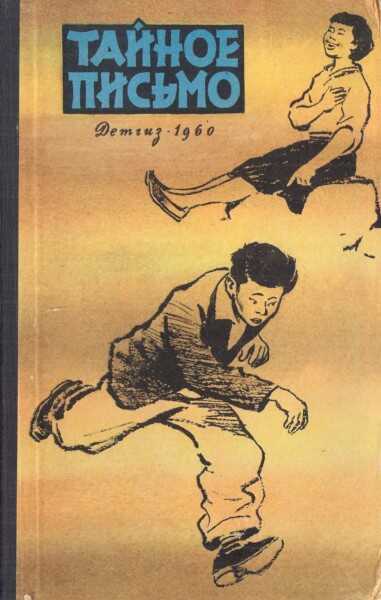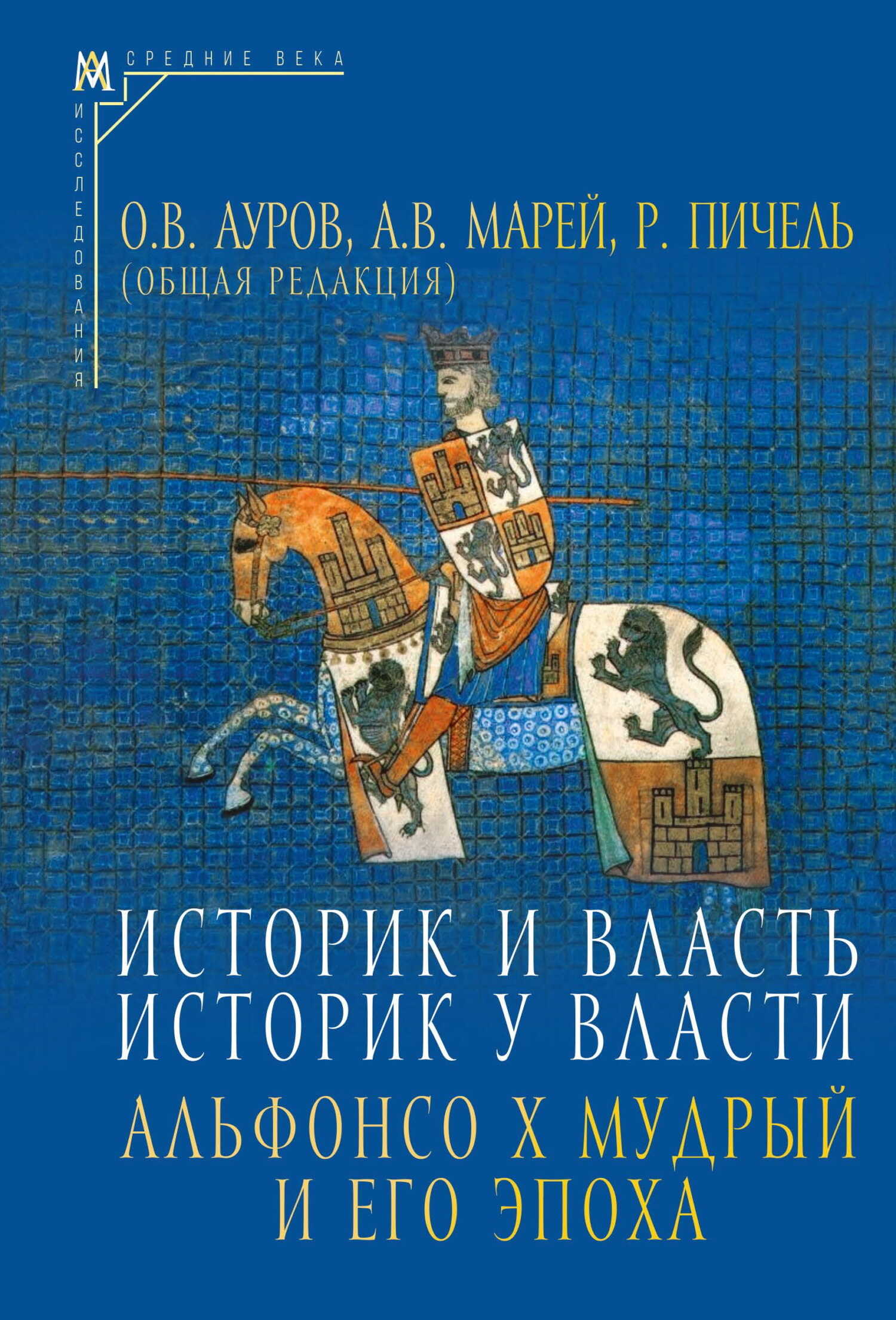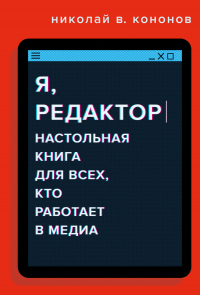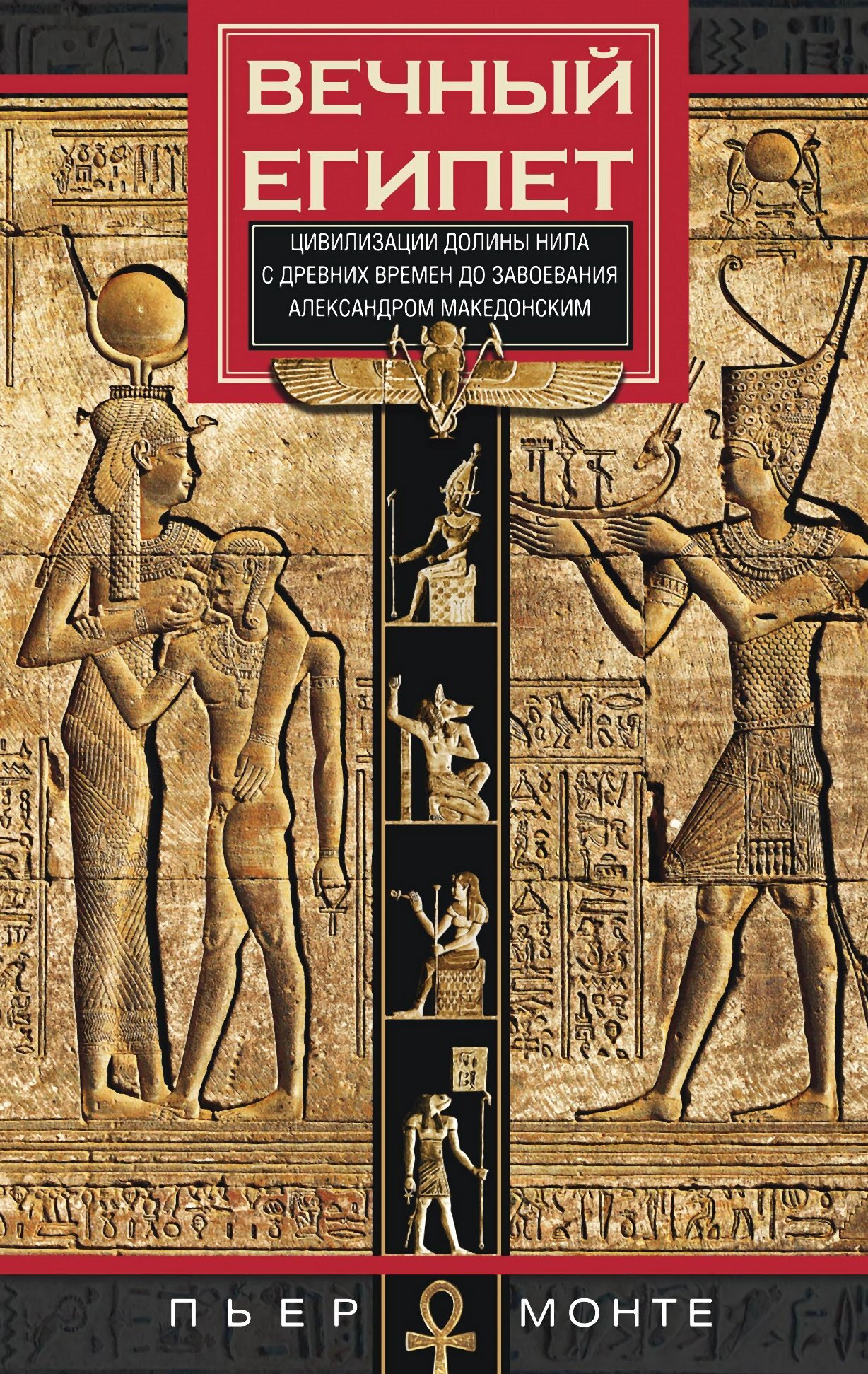Шрифт:
Закладка:
Книга, посвященная творчеству и тайной романтической истории великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе (1858-1924), состоит из двух частей: первая представляет собой переиздание перевода лучшей ее биографии, написанной по-итальянски ее другом, русской римлянкой Ольгой Ресневич; вторая – недавно обнаруженные письма ее возлюбленного, художника Александра Волкова-Муромцева (1844-1928), в венецианском дворце которого – Палаццо Волкофф – актриса жила несколько лет. Этот тайный эпистолярий был впервые опубликован в оригинале на французском Анной Сика в книге «D’amore е d’Arte. Le lettere a Eleonora Duse di Aleksandr Volkov. Nel Lascito Thun-Salm e Thun-Hohenstein» (Mimesis, 2021). Для русского издания писем публикатор написала специальное предисловие.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.