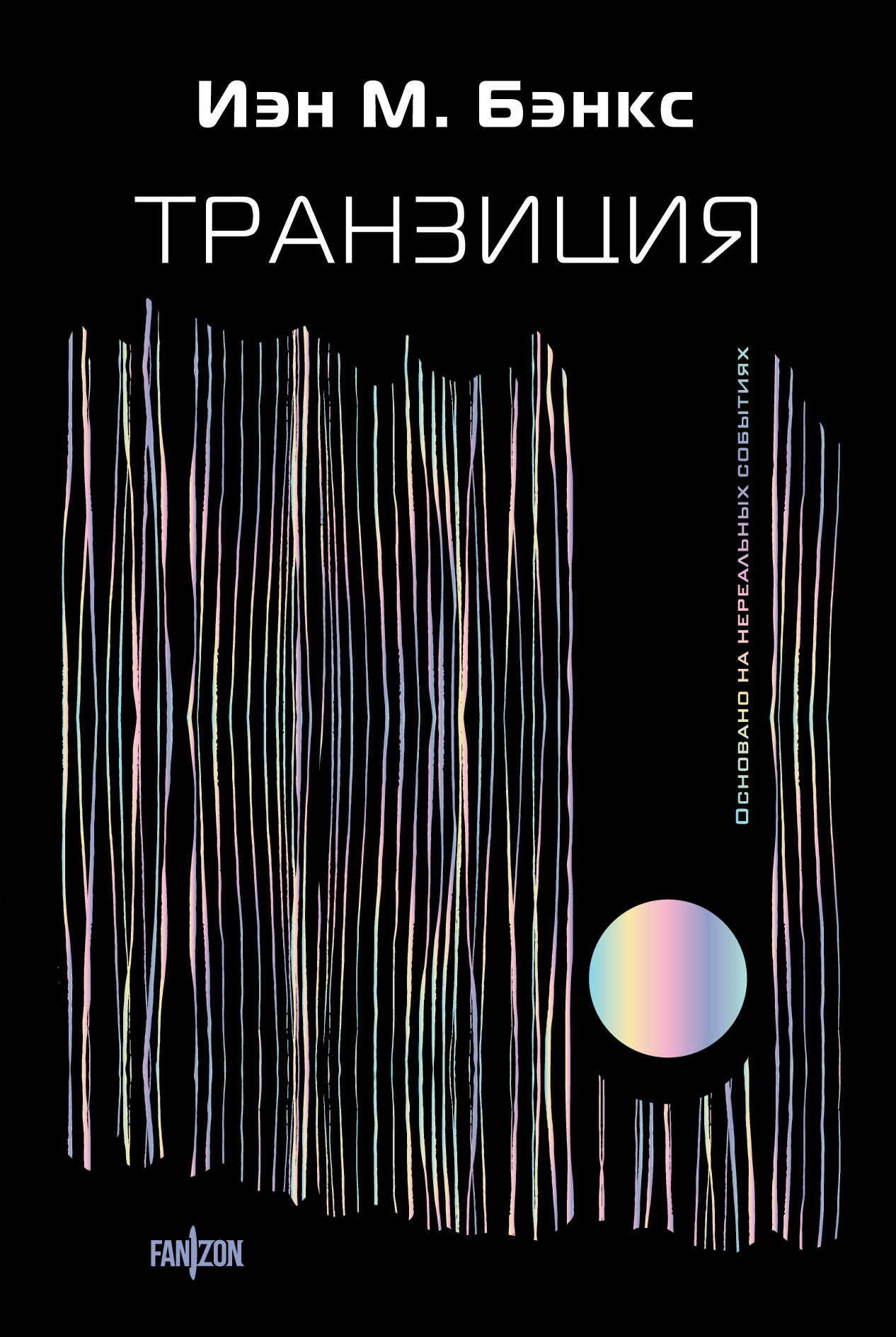Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Тэмуджин О, Эдриан Каббиш и Философ – транзиторы всемогущей теневой организации «Надзор», перемещающиеся между параллельными реальностями и вмешивающиеся в события, увеличивая влияние организации на мир. Миссис Малверхилл и Пациент 8262 – бывшие транзиторы, которые сомневаются как в самом «Надзоре», так и в правильности его действий.Их противостояние протекает в мире, застывшем между падением Берлинской стены и финансовым кризисом 2008 года. Такому миру нужна помощь. Но должна ли это быть помощь «Надзора»?
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иэн Бэнкс»: