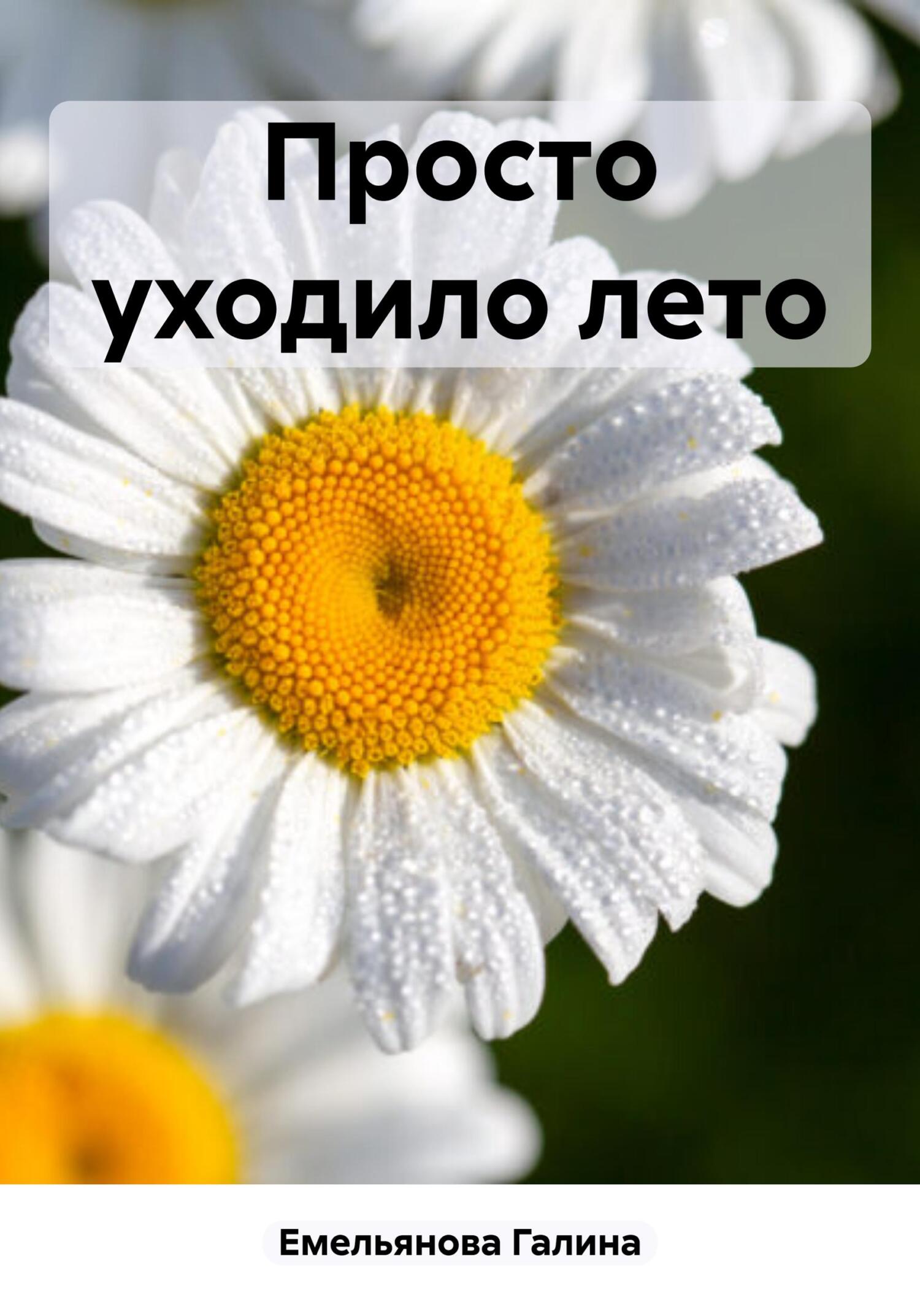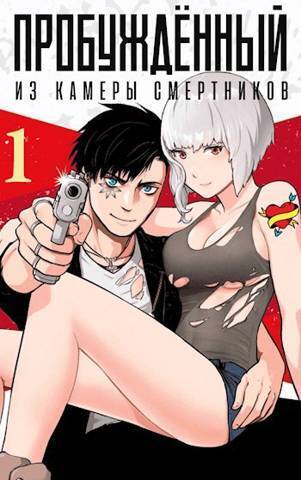Шрифт:
Закладка:
Преподавательница Луиз Кернс растит сына-аутиста и подрабатывает кинокритиком, пытаясь связать концы с концами. Однажды на закрытом показе она находит странную пленку с обрывком немого фильма и связывает ее с личностью миссис Айрис Данлопп Уиткомб, светской дивы и собирательницы фольклора, которая таинственным образом исчезла из закрытого купе поезда в 1918 году. Надеясь упрочить свою академическую карьеру, Луиз решает доказать, что Уиткомб была первой женщиной в Канаде, ставшей кинорежиссером. Но чем глубже она погружается в исследование, тем больше понимает, что с историей экспериментального фильма тесно переплетена странная легенда о Госпоже Полудня, демоне или призраке, который всегда получает свое. И вскоре Луиз осознает, что некоторые сказки ужасающе реальны, а от зла не скрыться даже на ярком солнце, и теперь ей стоит бояться не только за себя, но и за тех, кто ей близок.