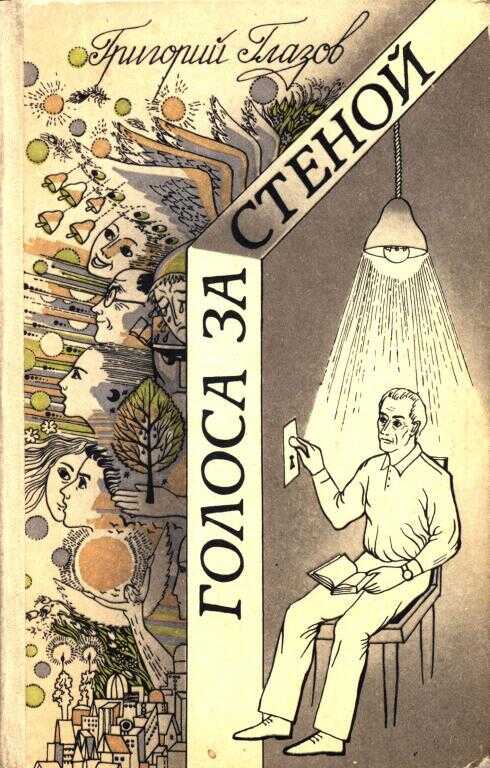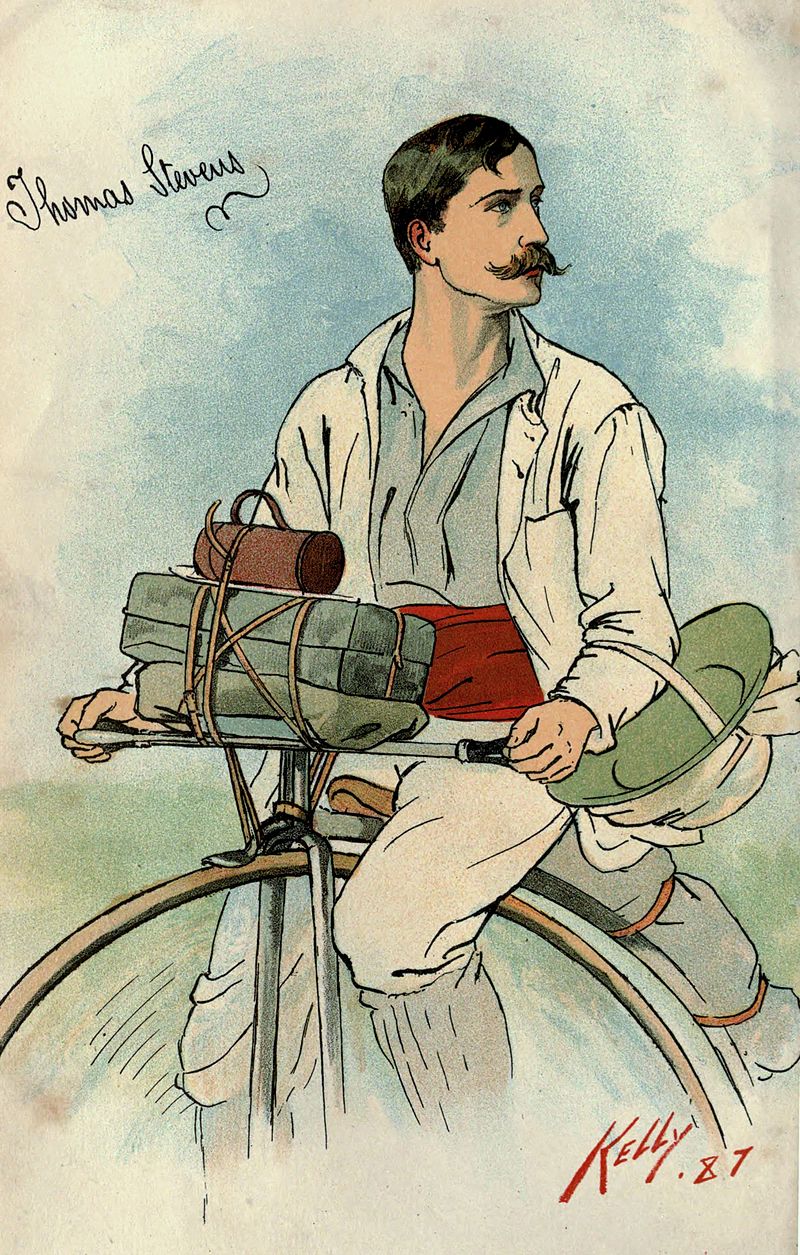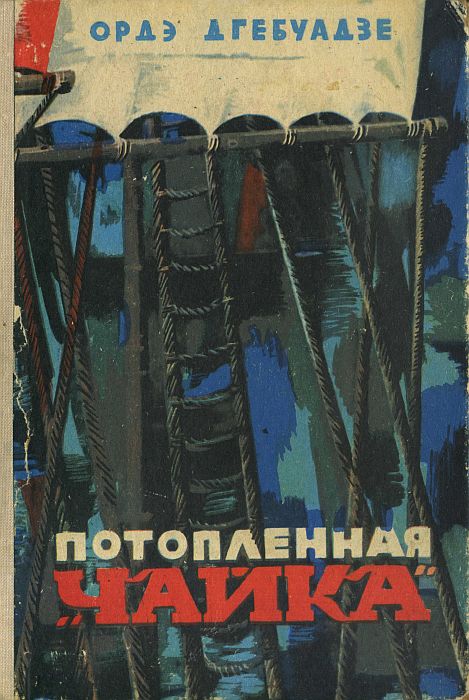Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Новая книга современного русского писателя состоит из повестей, в которых действуют как реальные, так и сказочные герои. Произведения утверждают мысль, что человек не одинок, его окружает жизнь, требующая от каждого из нас высоты душевного полета, доброты, честности, справедливости и мужества в борьбе со злом.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Григорий Соломонович Глазов»: