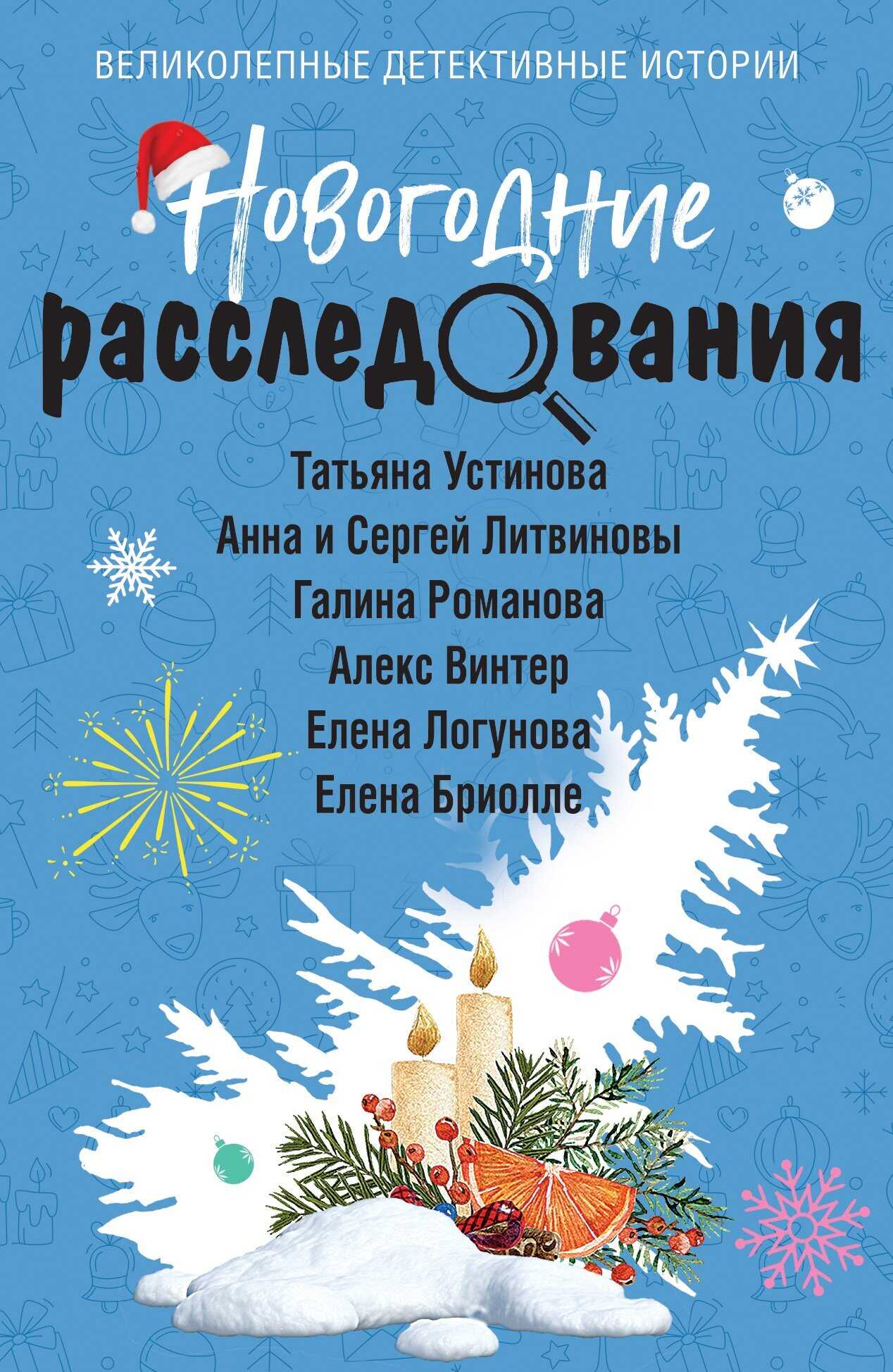Шрифт:
Закладка:
Коммутатор пискнул, отключаясь. Виктор вышел из автомобиля, хотел было бросить бороду в багажник, но помедлил. Новый год же. Пусть Мила улыбнется. Вместо этого достал с заднего сиденья мешок, который оставил тот чудак. Не хватает только красного тулупа или халата, но сгодится и так.
Лифт ехал медленно, с недовольным скрипом, и Виктор успел придумать с десяток слов, что можно сказать жене, чтобы помириться. Не про деньги. В этот раз не про них.
На лестничной площадке глухо слышалась музыка из-за закрытых дверей у соседей. Виктор поморщился. Похоже, эти решили гулять до последнего. Утро ведь уже! Может, они и вызывали такси, чтобы избавиться от засидевшихся гостей? Лишь бы музыка не помешала спать Миле и Артему…
Виктор осторожно провернул ключ в двери и вошел в квартиру. Тепло пахло курицей и терпко – мандариновыми корочками. Странно. И не выветрилось за ночь. Виктор едва успел подумать это, как из кухни в коридор вышла Мила. Совсем не праздничная, в халате и старых тапочках, с неопрятным узлом волос, она показалась ему самой красивой. Той самой женщиной, от которой никак нельзя было уходить в новогоднюю ночь.
– Ты та самая, от которой нельзя уходить в новогоднюю ночь, – хрипло произнес он, разом позабыв все подготовленные примирительные слова.
Мила вздрогнула и несмело улыбнулась, а потом кивнула на часы.
– Ты поэтому вернулся?
Виктор моргнул. Восемь вечера, самое начало смены. Нет, не смены.
– Именно так, – ответил он и позвал сына: – Артем!
– Папка? Папка! – Виктор закряхтел, когда мальчишка повис на шее, утыкаясь в кудрявую искусственную бороду. Вырос, уже и не поднять.
И вдруг стало все ясно. От начала и до конца.
– А смотрите, что принес вам Дед Мороз!.. – торжественно произнес Виктор, ныряя рукой в мешок, который все еще держал в руках. Что там будет, он не знал. Точно не «Лего» или новенький смартфон, но сейчас он был этому только рад.
Ирина Богатырёва
Замкадыш
Рассказ
Всякий раз, когда я наряжаю елку, я вспоминаю о них. Всякий раз, когда я достаю из дивана и елку, и эти дешевые украшения – цветные непрозрачные шары, многометровую гирлянду, смешные розетки из пластика с золочеными ягодками и листочками, присыпанными белой пылью, будто сахарной пудрой, – я не могу не думать о них. Поэтому каждый год, в конце декабря, они снова входят в мою комнату и садятся на полу друг напротив друга, она – по-кошачьи подогнув под себя ноги, он – развалившись, подергивая в такт своим мыслям ступней в белых носках – никогда не носил другие, только белые, – садятся и начинают свой бесконечный разговор, одинаково умный и высокомерный, о чем бы они ни говорили, проникнутый иронией, тонкими намеками и подтруниванием, как только может быть между людьми, давно и накрепко сросшимися.
А я опять между ними. Сижу и ловлю каждое их слово, пьянею и болею от их невозможной близости, и их насмешки втыкаются мне в кожу, как булавки, отчего мне и больно, и щекотно, и сердце обрывается всякий раз.
Они были красивой парой. Лучшей, кого мне приходилось встречать. Казалось, их сделали специально друг для друга, лепили друг под друга: все, чего недоставало в нем, присутствовало в ней, и наоборот, причем это дополнение было ненавязчивым, некритичным, потому что в чем-то главном они были одинаковые, абсолютно схожи, как брат и сестра.
Они были красивой парой, и каждый красив сам по себе: Сергей – ясной и несомненной красотой, отточенной многими поколениями, Катя – тонкой, острой и злой, постоянно истомленной. Я знала, что это маска, я знала, что за ней скрывается живой, быстрый и язвительный ум, но Кате нравилось притворяться именно такой, похожей на малокровных красавиц Серебряного века. Единственное, от чего она оживлялась и о чем могла говорить с искренней заинтересованностью, была еда: она любила хорошо поесть, что никак нельзя было сказать по ее худобе. Однако готовить не умела – готовил Сергей и делал это отменно, мне доводилось пробовать. Он относился к этому как к таинству, всегда сам ходил за продуктами на рынок – там, где они жили, был старый продуктовый рынок, где он знал каждого продавца, и они знали его, – долго и тщательно выбирал овощи и зелень и почти с жертвенным трепетом – мясо. Мясо ему удавалось особенно хорошо, возможно, потому, что его больше всего любила Катя. Когда она говорила о мясе, ее глаза разгорались жизнью. «Если получилось особенно вкусно, я не могу ни о чем думать, – говорила она. – Я могу встать ночью и пойти есть. Вот недавно Серж запекал баранью ногу. Я ночью проснулась от того, что помнила, что в холодильнике еще осталась эта нога». Голос ее смеялся, но лицо оставалось серьезным и хищно красивым.
И да: Сергеем мужа она не называла никогда.
В то время я была привязана к ним. Я восторгалась ими, слушалась их, я ловила их идеи, мне хотелось подражать им. Они казались мне какими-то необыкновенными, невозможными людьми, небожителями или около того, да они и были чем-то подобным, во всяком случае себя считали таковыми.
И я до сих пор не терплю, когда общие знакомые начинают говорить о них плохо, я всегда ухожу при этом. Нет, я не могу о них плохо говорить.
Мы познакомились с Катей в частной школе доккино, где нам вкручивали камеру вместо глаз и заставляли думать сценами, во всяком разговоре слышать вербатим, а любое помещение воспринимать с точки зрения удобства проведения в нем съемки – освещение, ракурс, все дела. Всякий человек для нас становился и целью, и средством, всякий виделся носителем и потенциальным транслятором информации, жизненной истории и прочего. Нас заставляли ходить в толпе и прислушиваться, прислушиваться и приглядываться, приглядываться и видеть, какие они разные и странные, необычные и нет одинаковых, что всех их сюда привело, в этот город, в мегаполис, в хаос, что свело вместе, о чем они говорят, о чем молчат и о чем думают, что они делают и что мечтают сделать. Смотри, смотри и запоминай, как ходят, как теребят пальцами пуговицы, задумчиво выстукивают по полу, качают белым носком в такт мыслям, кивают головой, закрывают глаза, слушают музыку в наушниках, – смотри, запоминай, а еще лучше – снимай, всякий раз снимай.
Я ухнула в это, как в темную, незнакомую воду. Я почти разучилась думать сама и почти не спала. Школа была платной, она отнимала все время и деньги. Чтобы платить за нее, за съемный угол в Химках, за проезд на электричке и – хоть немного – за еду, я работала в трех