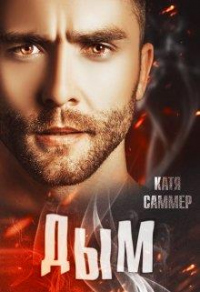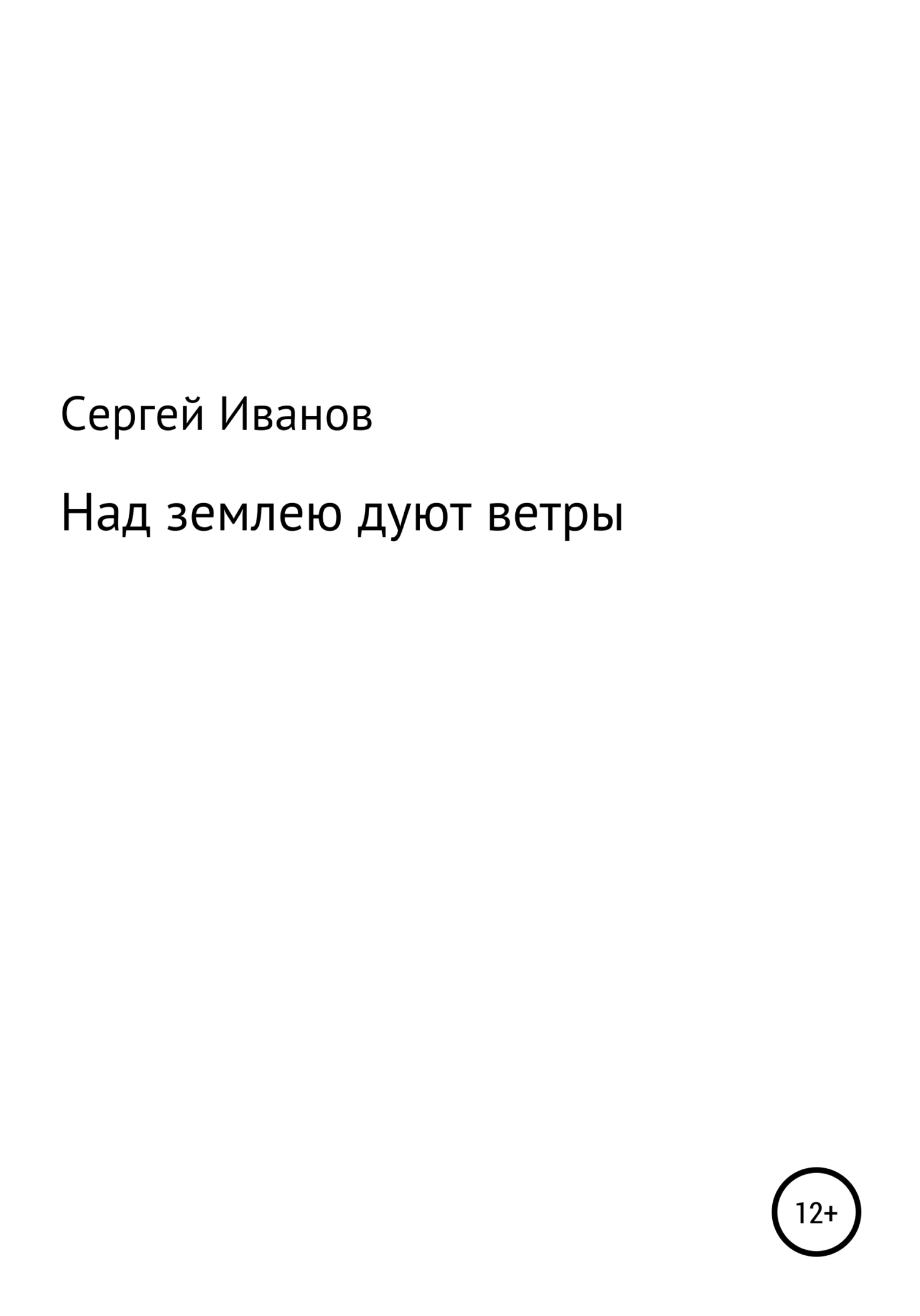Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Разум всегда готов впасть в кошмарный сон, рождающий чудовищ. И этот сон в романе Владимира Шпакова «Пленники амальгамы» становится явью. Главный герой произведения – Его Величество Безумие, представленное в самых разных ипостасях. Своим крылом Безумие задевает каждого персонажа; перед каждым ставит зеркало, где отражаются изувеченные и искореженные души. Метаморфозы, которые претерпевают эти души, необычны, фантастичны, они выламываются из рамок обыденности и привычной логики. И в то же время говорят что-то важное о нас, здравомыслящих представителях рода человеческого…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владимир Михайлович Шпаков»: