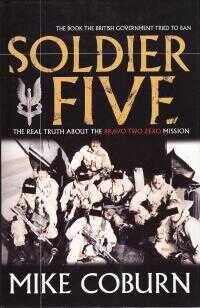Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Без исхода» (1873) описывает традиционный конфликт российской жизни конца 19-го века. Пара типичных героев-«базаровых»: учитель-народник Черемисов и журналист Крутовских, противостоят паре «хищников» — Волков Века, председателю-предводителю Александру Андреевичу Колосову и заводчику-миллионеру, англоману, Николаю Стрекалову…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Константин Михайлович Станюкович»: