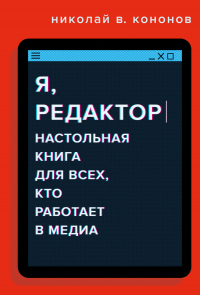Шрифт:
Закладка:
Но хватит, хватит лепетать и лелеять себя, давнюю. Или же в самом деле речь о Домотканове? Тогда – вот один мой лукавый, горе-луковый день: одышливая пенсионерка топчется-толчется, что-то высматривает и выискивает на ближайшем рынке. Всегда ведь удается найти изъян в этой красочной картине нашего южного изобилия! Обнаружить нечто, родственное глохнущему пруду – цветы, фрукты-овощи попроще, поплоше, подешевле. Какая-такая пенсия у бывшей преподавательницы музучилища?..
С веткой оранжевых солнышек-дубков и нетяжелой сумкой выныриваю у стен бывшего кинотеатра, приглашающего – о, бесплатно! – на выставку городских художников. (Не забыть, не забыть обзвонить, зазвать подружек-старушек. А то забуду сегодня – забуду совсем, выставка закроется, захлопнется многоцветная шкатулка, вещь интересная, сродни шкатулке музыкальной!) Захожу в просторную остекленную пустыню, где лишь одна стена жилая, живая – и нахожу мой Домоткановский пруд! Никогда прежде не доводилось видеть его там, где положено: на стене достославного музея в кругу достославных русских пейзажей. И не являлась смелая идея последопытничать – картонный билетик на некую пригородную электричку (подмосковную вроде?), спортивный костюмчик, кеды и: «Где тут у вас заросший сто лет назад пруд?»
А он был чудесный. Очертания замерших на долгое мгновение вольных куп деревьев, неведомых трав, непробудных вод были чуть иные, и весь этот стародавний уголок казался меньше, камерней, чуть минорней. Но от холодноватых зеленых, жемчужных, серо-голубых потоков света, льющихся на мои морщины и мороки, стало привычно тепло. Пруд в Домотканово… Безмятежность и чистота, внятные и старому и малому, и еще какая-то грустно-радостно тревожащая сердце протяжная нота – голос красивой несчастливой Родины? Совсем забедовавшей, рассчитавшись с советским прошлым…
Подошла статная смотрительница, промолвила мне, застоявшемуся столбом единственному посетителю:
– Автор данной работы – пенсионерка, участница Великой Отечественной войны. Проработала сорок лет на швейном комбинате, почти ослепла и обратилась к живописи. С детства интересовалась искусством, но война помешала осуществить заветные планы. Напишите, если желаете, в книгу отзывов, дать вам? И… – после паузы, просто по инерции, конечно, ввиду моей ретро-авоськи и самовязанной кофточки:
– …возможно приобретение! Все, в принципе, продается.
– Все продается?
Я обомлела – и опомнилась:
– Картина замечательная! Между прочим, очень напоминает известную работу Серова «Заросший пруд в Домотканово». Но здесь он, смотрю, несколько иной, хотя тоже изумительный… – зашелестела эпитетами.
Смотрительница возвысила соболиные брови над крупными глазами:
– Не может быть! Мы брали ихние работы к нам в культурный центр с одним условием: никаких копий! Один там, представляете себе, представил «Мишки на дереве»! Что ж, никто, что ли, конфет таких никогда в жизни не ел, что он себе представляет!
– Я, наверно, ошиблась. Очень хороший пейзаж. Давайте, я напишу о художнице в вашу книгу отзывов!
Растревоженная смотрительница что-то ответила, театрально откинув голову, но за ее плечом возник некто прозрачный… нет, плотный, коренастый, исподлобья присматривается к картине – истово так, строго… Чуть смягчившись, кивает мне: «Тишина там неописуемая… А уж как жужжат портретируемые персоны!» Так врастяжку сказал, со смешком: «персо-о-ны…»
– А Ермолова? Тоже жужжала?
– Ну, братец… Ермолова, хватил! В повадках Ермоловой величия больше, чем во всех князьях и княгинях, вместе взятых!
Не успеваю удивиться тому, что живописец Серов (он, он это, конечно!) назвал меня «братцем», как видение исчезает, сливается с подрагивающей гладью домоткановского пруда, точно вытесненное резким контральто:
– …из приличных семей, главное, хорошистки, отличницы – сманили мою на пруд этот! С другими вот ничего такого не случается, не вываливаются ниоткуда… Главное, чего тебя в лодку понесло без спроса, чего понесло? Мать тебе разрешала? – Смотрительница смотрит на меня волооко, вопрошающе.
Я бормочу что-то о мудрейшей Агате Кристи, которая в пятидесятой или шестидесятой своей книге писала: настигающие людей события вовсе не являются следствием их хорошего или дурного поведения. Они просто приходят к кому-то… А кто-то всю жизнь проживет приятно-прилично… Пресно? Как сказать! Никаких тебе падений и выпадений… Господи, как там моя девочка в Ленинграде? То есть, в Петербурге, конечно…
Через неделю я препроводила на выставку двух своих приятельниц постарше – и не обнаружила там ни строгой смотрительницы, ни домоткановского пруда… Господи, да неужели из-за меня, из-за моей словоохотливости картину удалили?.. Легко нашла вместе с большеглазой девочкой адрес художницы, Бочаровой Л.И., в аккуратно разграфленной тетради. Не удержалась, спросила:
– Ты уже научилась плавать?
– Не-а…
– Мама у тебя красивая!
– Да… чуть не убила меня из-за этой лодки! Теперь вообще в парк не пускает, сижу тут вместо нее… Насмотрелась ужасов в своей больнице, кастеляншей там работала. А вообще-то, она артисткой хотела стать! Когда-то…
Когда-то и я, отставная музыкантша, нежная нескладеха-неудачница, любуясь знакомым прудом в альбоме Серова, сочинила занятную пьеску, деревенскую такую баркаролу – и, разумеется, не удосужилась ее толком записать, опубликовать… Как и многое другое. Вот отчего иногда получаются, случаются поступки, выходки, высказывания, совершенно непонятные нам самим? И долго потом сетуем, недоумеваем – что, «бес в ребро», «черт попутал»? Странно, что детская – неуверенность? недомыслие? – по-прежнему при мне, как намертво приросшая кожица лягушки, вовеки не ставшей прекрасной царевной, не покинувшей своего серенького – зелененького! – предела… («Ах, драгоценная вы наша, вам бы не музлитературу, не сольфеджио олухам вдалбливать….) А почему столько лет медлила на своей фабрике швея? Какие силы, недобрые и глумливые, тайно вяжут нам руки, исподволь погружая в глубины глохнущего пруда, баламутя душу его неизбывной горечью?
Но смиренную слепнущую швею заросший пруд окропил-таки живой водой: пейзаж, задумчивая вариация на тему Серова, написан прекрасно!.. И вот уже, храбрясь, приближаюсь к старушке за мольбертом – хрупкому седенькому эльфу… Добрыми больными глазами впивает она октябрьское полыхание кленовой аллеи… Милая Л.И.! Здравствуйте!
Нет, наверно, Бочарова Л.И., как одна моя знакомица, портниха, между прочим, курит крепчайшие папиросы, в ее обиталище шастают разноголосые вздыбленные коты, она их распекает басом и тоже крепенько… Тут я: «Простите, простите!» – «А, из-за вас мой пруд вышвырнули, всякое-такое наговорили! А я слепая, а я сорок лет на швейном комбинате… Чтоб вы в том пруду утонули! (Не так, конечно, станет она мне «выкать»…) Чтоб ты в нем утонула… утопла… утопла в ем!»
Однако, Л.И., Людмиле Ильиничне, Людочке, самой оказалось лет сорок:
– Это меня с Бороздкиной спутали! Почти ослепла, а насмешница, хохотунья – прелесть! Всю жизнь работала не швеей – художницей по тканям. Потом у нас, в реставрационной мастерской… Теперь одни цветы пишет, и такие радостные, яркие, в стиле ваших дубков – вы напрасно, конечно… вон тот кувшин подойдет. О, красота! Тоже очень люблю их, спасибо!
И я, и я уже почти