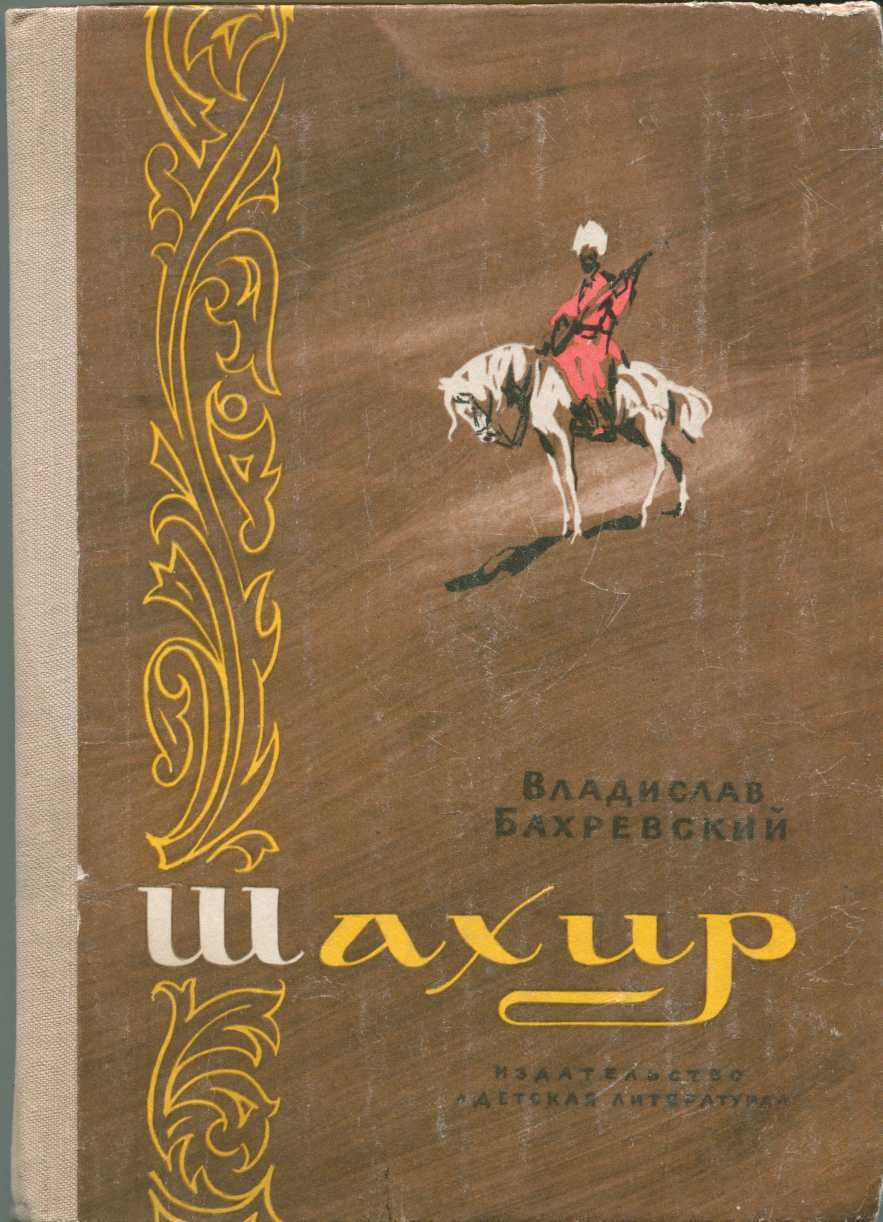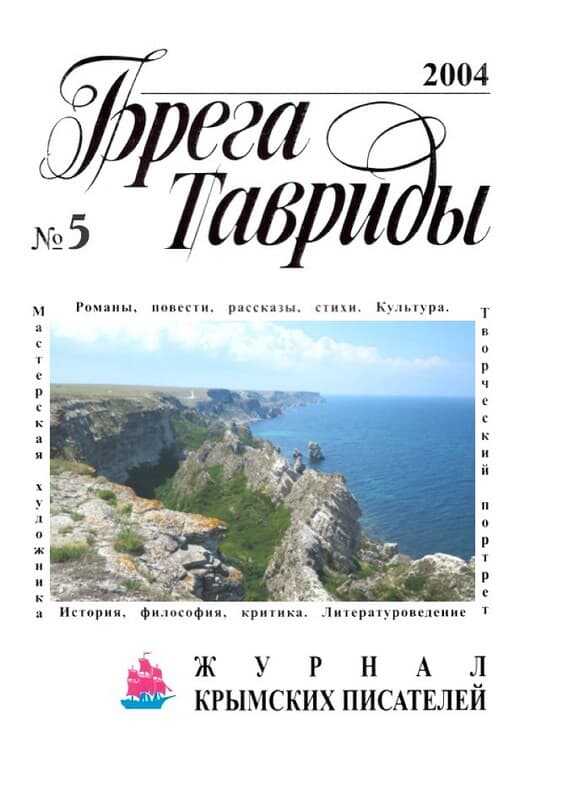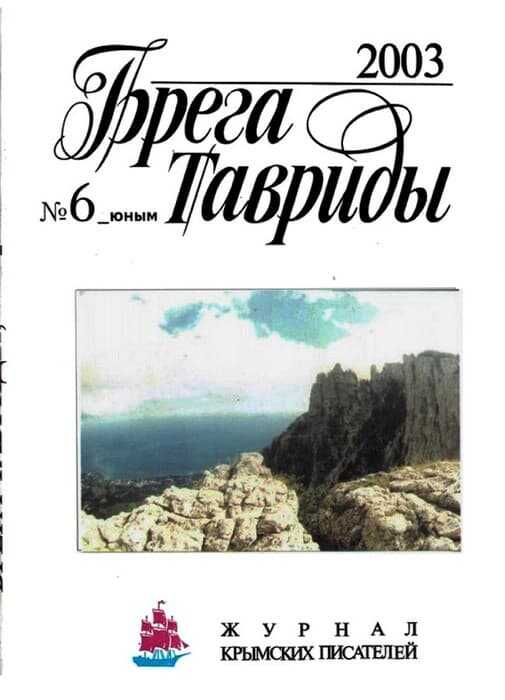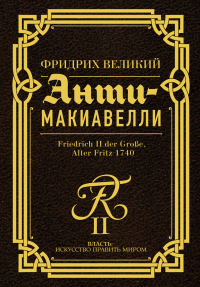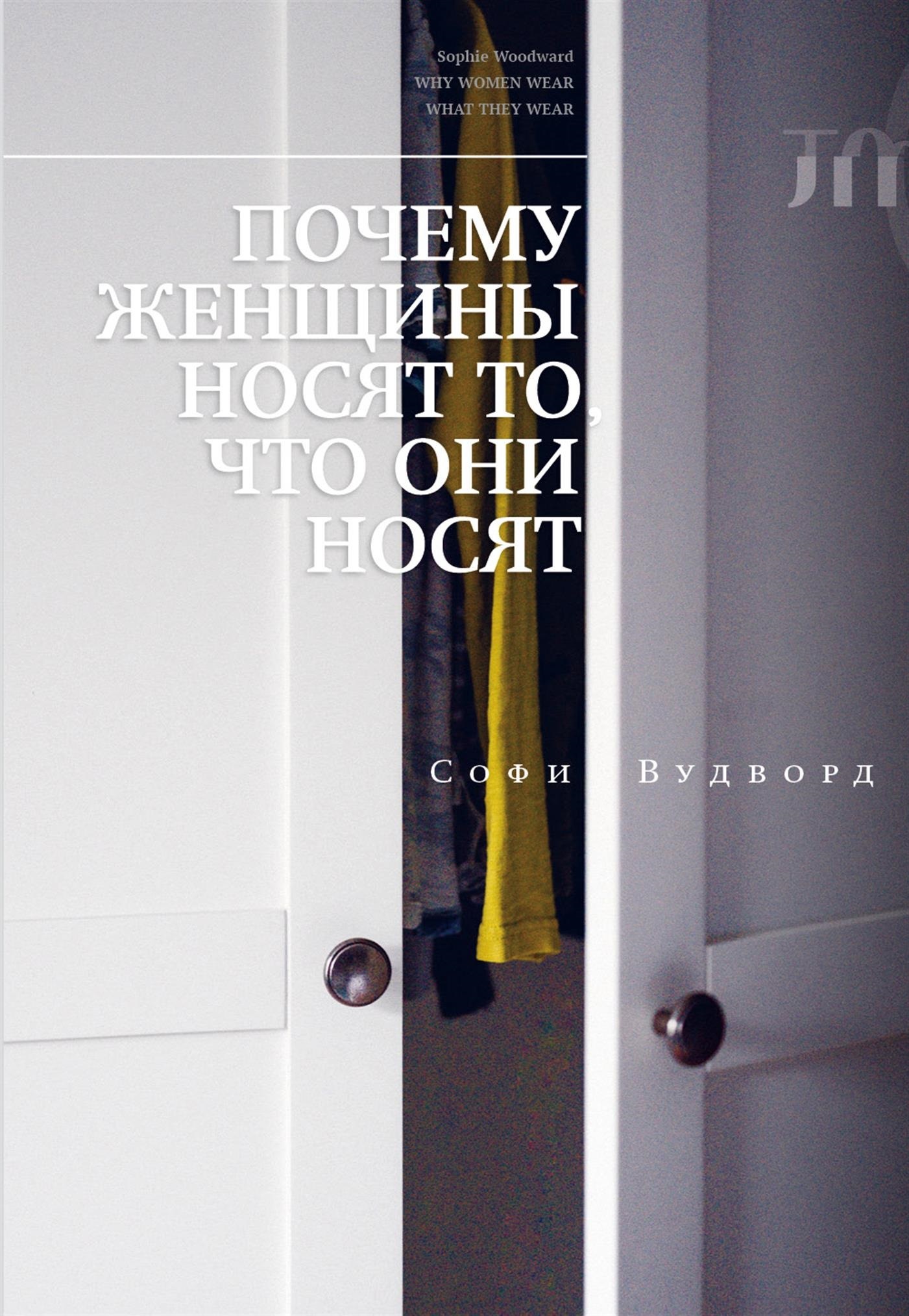Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Повесть о великом туркменском поэте, просветителе, общественном деятеле Махтумкули (XVIII в.). Своими стихами, а то и с оружием в руках он отстаивал свободу своего народа, призывал к объединению туркменских племен. Для среднего и старшего возраста.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Владислав Анатольевич Бахревский»: