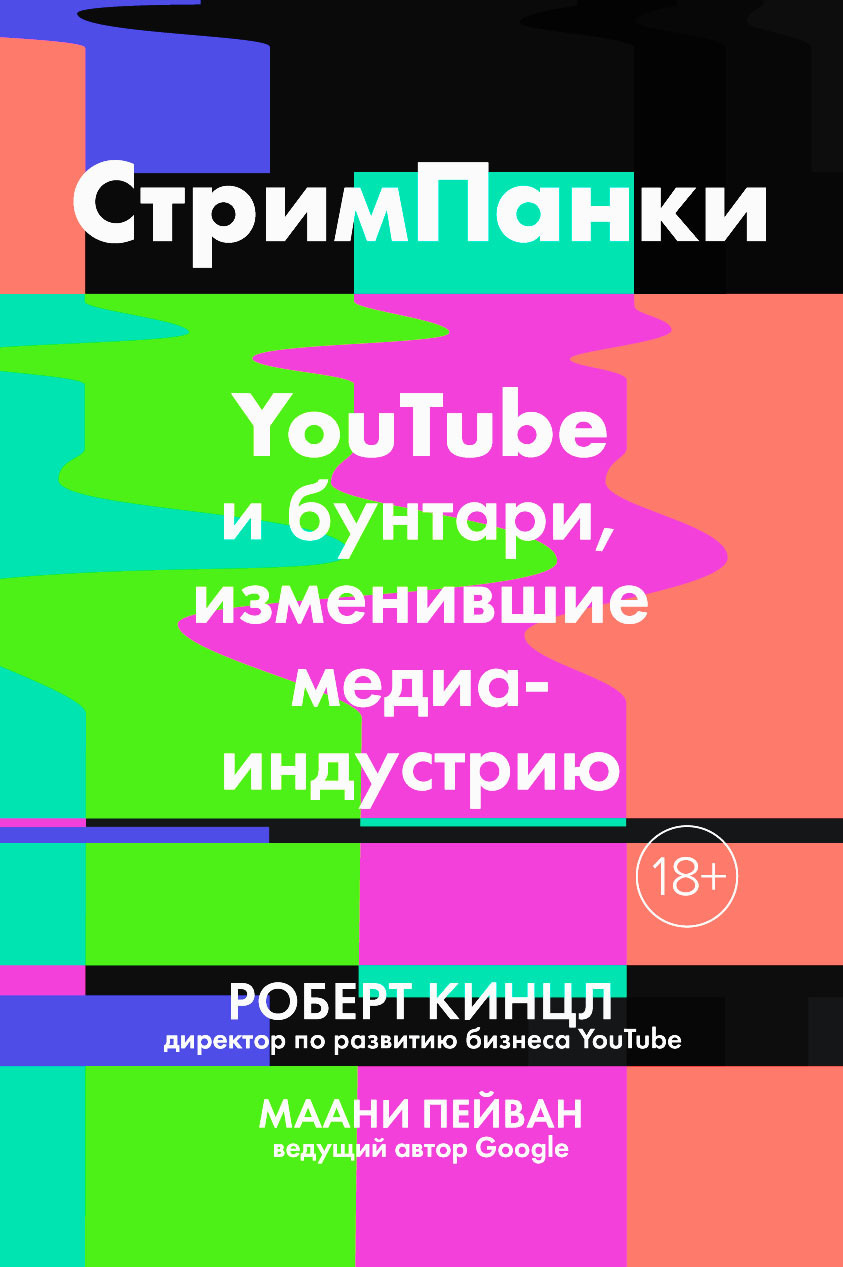Шрифт:
Закладка:
«Что наша жизнь? Езда! Мы ездим после роддома в коляске, довольно быстро пересаживаемся на велосипед, далее – ролики, самокаты, скутеры, наконец – вожделенный автомобиль. Всё это перемежается трамваями, электричками, поездами, каретами с тройками, каретами скорой помощи, каталками… И заканчивается катафалком. Когда мы задумывали эту книгу, то, конечно, не предполагали, что в ходе её написания подъедет катафалк. Мы начали её втроём, а завершили вдвоём. Ту часть, которая готовилась с участием папы, мы оставили такой, какой она и планировалась. Вторая часть посвящена ему». Погрузитесь в мир, где автомобили являются не просто средством передвижения, а настоящими героями множества приключений, дружбы и воспоминаний семьи Ширвиндт. Вместе с Александром Анатольевичем, его женой Наталией Белоусовой и сыном Михаилом вы отправитесь в увлекательное путешествие по дорогам прошлого, где каждый поворот наполнен эмоциями и историями. Также в книге вы найдете: • отрывки из других книг Александра Ширвиндта; • множество фотографий и писем из семейного архива; • адаптированные для печати фрагменты выпусков «Гараж» youtube-канала Михаила Ширвиндта; • воспоминания друзей и коллег об Александре Анатольевиче; • и, конечно, его неповторимый юмор! Доброй дороги!