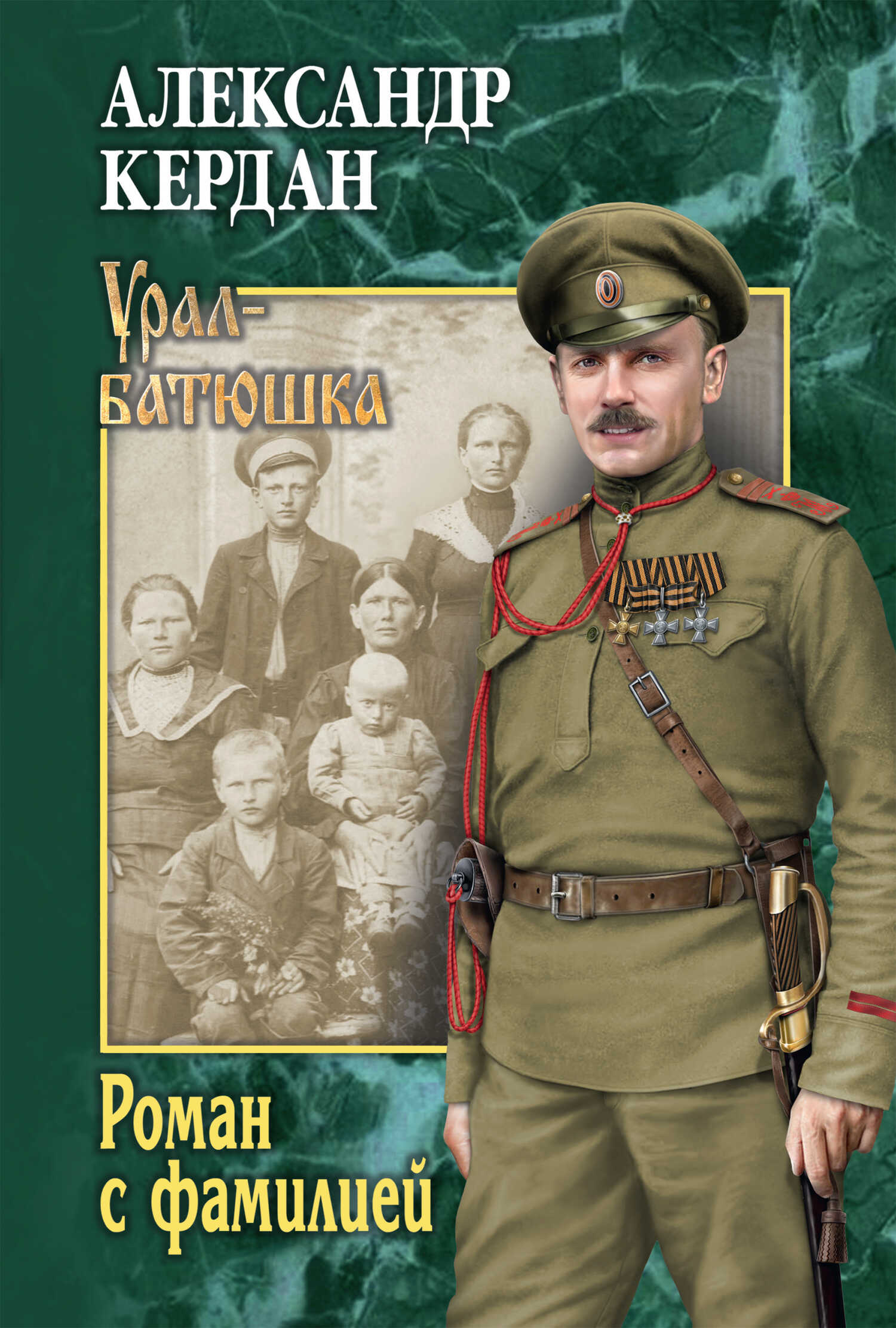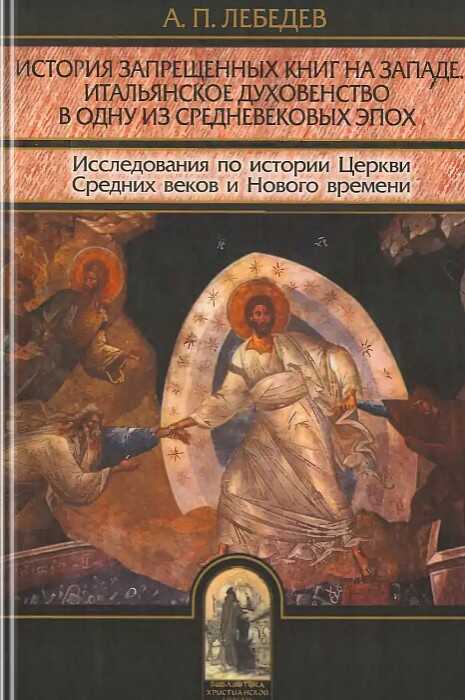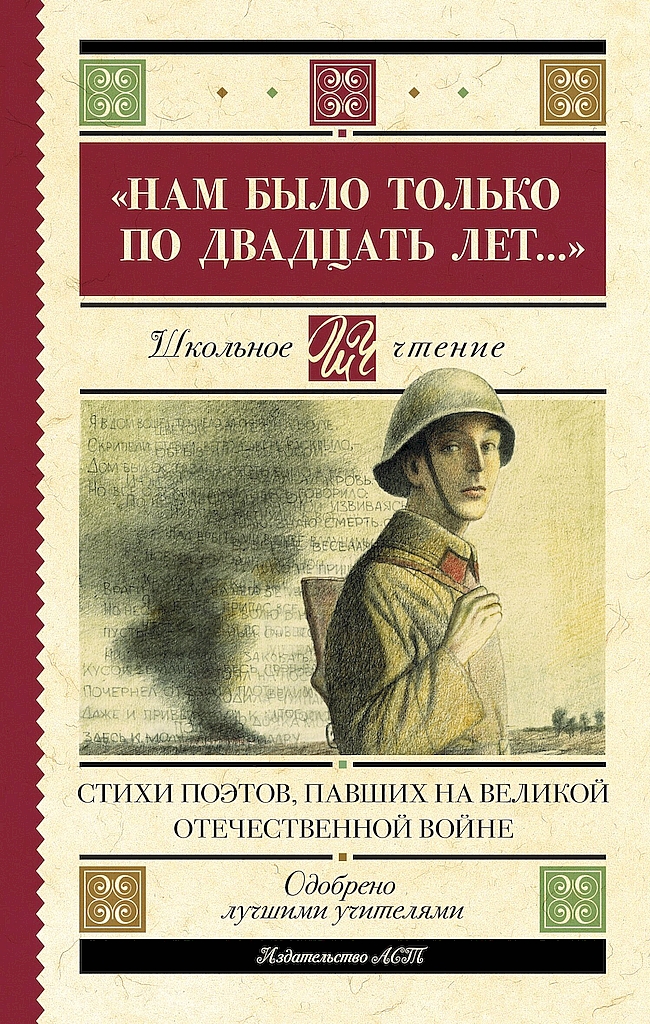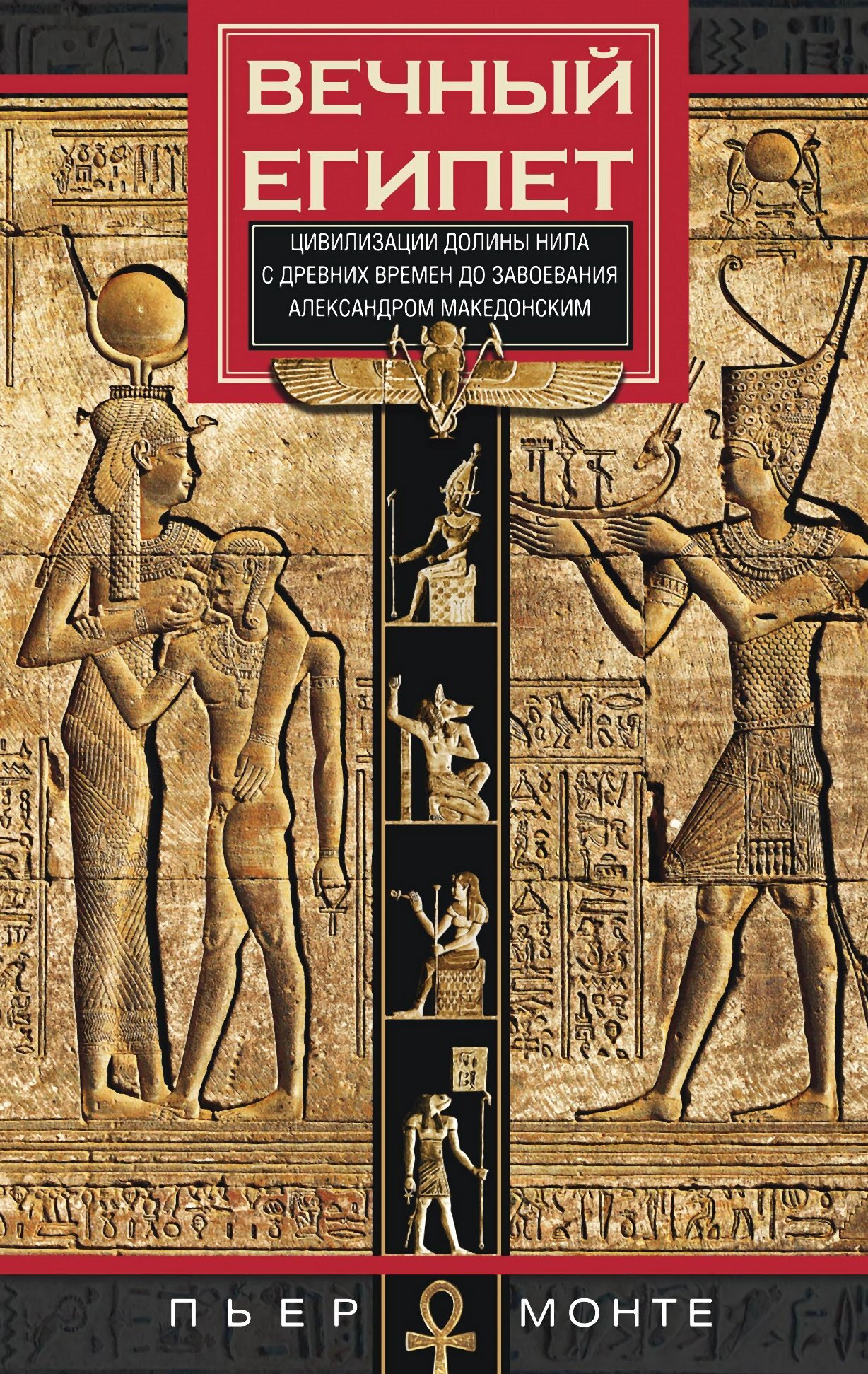Шрифт:
Закладка:
– Откройте, именем Цезаря!
– Я, помощник префекта претория, требую немедленно открыть дверь!
– Прошу тебя, Юлия, прикрой свою наготу, – взмолился я и распахнул дверь.
На пороге стоял помощник префекта личной гвардии Цезаря Валерий Легур. Из-за его спины выглядывала вольноотпущенница Юлии, у входа в дом толпилось с десяток преторианцев в полной амуниции.
– Где госпожа, что с ней? – не удостоив меня приветствием, сурово спросил Валерий Легур.
Я не успел ничего ответить, как из-за моей спины вышагнула вперёд Юлия. Руками она придерживала порванную на груди столу. Волосы были растрёпаны, лицо раскраснелось, а глаза метали молнии, точно так же, как у её отца, когда он был в гневе.
– Арестуйте его, – указав на меня, приказала она Легуру. – Этот человек пытался силой овладеть мной!
5
Знаменитая Мамертинская тюрьма, которая так страшила моё воображение, при близком знакомстве оказалась вовсе не такой мрачной, как представлялось. Хотя всё, что пристало темнице, здесь присутствовало: засовы на дверях, решётки на крохотном, почти не пропускающем свет оконце, низкие, сочащиеся влагой своды, затхлый запах, гнилые отбросы вместо пищи…
Узилище, куда меня бросили, по счастью, пустовало. Добровольное затворничество под крышей своего дома сменилось на невольное одиночество в каменном склепе. Но размышлять о сущем и вечном мне по-прежнему никто не мешал.
В тишину моего нового пристанища изредка доносились глухие стоны, плач и ругань, да раз в сутки раздавались гулкие шаги угрюмого и молчаливого тюремщика, как будто лишённого языка.
Хлопала дверь. Тюремщик бросал мне кусок лепёшки, ставил на каменный пол глиняную плошку с отвратительной бурдой, наливал воду в глиняную кружку. Забрав деревянную бадью с отходами, он удалялся.
И снова хрупкая тишина воцарялась в темнице, оставляя меня наедине с моими мыслями. И, если в свободном мире от раздумий меня отвлекали птицы, распевающие за окном, то здесь навещали крысы…
С этими хвостатыми тварями у нас сложились самые добрые отношения. Я их не трогал. Они не трогали меня, довольствуясь остатками тюремной бурды. Серым, вездесущим чудовищам это угощение пришлось по вкусу.
Их появление в моём узилище где-то через час после ухода тюремщика стало устойчивой традицией.
Каждый день три особи, с завидной пунктуальностью, вылезали из щели в углу темницы. Следуя своеобразному ритуалу, они выжидательно поглядывали на железные двери, как будто проверяя, не появится ли вдруг тюремщик-молчун. Затем осторожно подкрадывались к плошке, двигаясь всегда в одной и той же последовательности. Первой семенила жирная старая крыса с разорванным левым ухом. Она зорко водила вокруг чёрными глазками-бусинками и, подойдя, сначала долго принюхивалась, потом приступала к еде, медленно и с каким-то патрицианским достоинством. И только тогда, когда она насыщалась, к плошке осмеливались приблизиться другие крысы. Поев, они глядели на меня с чувством превосходства и, не торопясь, исчезали в той же щели.
Это зрелище так отличалось от поведения людей, готовых убить друг друга за право первым схватить подачку в дни раздачи бесплатного хлеба на площадях Рима, что вызывало у меня невольное восхищение этими мерзкими на вид, но такими умными существами.
Я даже придумал крысам имена. Старую крысу, с разорванным ухом, назвал Ливией, а двух других – Юлией-старшей и Юлией-младшей…
В том, что случилось со мной, я винил не Юлию – дочь Цезаря, а её мачеху – Ливию. Она источник всех бед. В детстве приложила немало усилий, чтобы испортить Юлии жизнь, а когда она подросла, принялась так рьяно в устройстве этой жизни участвовать, что подтолкнула падчерицу к отчаянным поступкам. И, наконец, она отняла у Юлии дочь – Юлию-младшую, которую взялась воспитать в том же духе…
Эту маленькую девочку я совсем не знал. Но почему-то представлял её похожей на ту Юлию, которая приходила ко мне на уроки, о судьбе которой я так много размышлял в своём заточении. Откуда в Юлии-старшей такая злоба и ненависть? Почему она так несправедливо поступила со мной? И хотя ответ на эти вопросы был очевиден: власть и вседозволенность развращают человека, я не сердился на неё, огорчался только тому, что обстоятельства жизни вытеснили то доброе, что было в её душе.
«Чёрная пелена однажды спадёт с её глаз. Она непременно откажется от своего ложного обвинения и вызволит меня из темницы…» – наивно думал я.
Но дни проходили за днями, и моя надежда на освобождение таяла. Куском камня я первое время чертил на стенах зарубки, отмечающие дни пребывания здесь, но потом забросил это занятие.
Когда щёки мои заросли косматой, как у варвара, бородой, ко мне, словно выходец с того света, явился посетитель, которого я никак не ждал.
Это был Талл.
Он, брезгливо оглядев мою темницу, тяжело опустился на скамью, услужливо принесённую тюремщиком.
Дождавшись, когда за тюремщиком захлопнется дверь, Талл произнёс негромко, но многозначительно:
– Плохи твои дела, Кердан… Отцу Отечества известно всё.
– Прости, Талл, но кого ты называешь Отцом Отечества?… – припомнив его манеру придавать значительность всему, о чём говорил, усмехнулся я, скрывая улыбку в бороде.
– Ах да, ты ничего не знаешь! – с ещё большим апломбом произнёс Талл и приложил надушенный платок к носу. – В канун майских ид Сенат удостоил Цезаря новым почётным званием – Отец Отечества. В честь этого грандиозного события организовали игры, жертвоприношения в храме, а затем в театре Марцелла устроили представление, составленное из многочисленных поэтических славословий. Их нарочно к этому дню сочинили известные тебе Вергилий, Гораций, Варий и другие служители муз…
– И чем же я прогневил Отца Отечества? – помня ещё одну особенность Талла – фонтанировать словами до бесконечности, перебил его я.
Талл вдруг разозлился:
– Я на твоём месте не перебивал бы, а слушал! Я вообще мог не приходить сюда… Я рисковал расположением самого… Только ради нашей давней дружбы…
И хотя я не мог припомнить, чтобы мы с Таллом были когда-то друзьями, посчитал разумным извиниться:
– Прости меня, великодушный Талл. Я очень ценю твою дружбу и восхищаюсь твоей смелостью. Ты один решился навестить меня здесь, в этом мрачном месте. Я искренне благодарен тебе…
Мои покаянно-похвальные слова возымели своё действие, и Талл, так же стремительно сменив гнев на милость, заговорил снова:
– Твои дела плохи… Плохи, как никогда!
Я пожал плечами.
Это раззадорило Талла:
– Твоё положение незавидно даже не потому, что наговорила одна известная тебе госпожа… Ну, ты понимаешь, о ком я говорю… Плохо, что он… – Талл поднял указательный палец правой руки к потолку, – …он поверил этим словам!
– Но ты-то понимаешь, что я никогда не посмел бы…
– Понимаю. Но в данном случае куда важнее другое: она