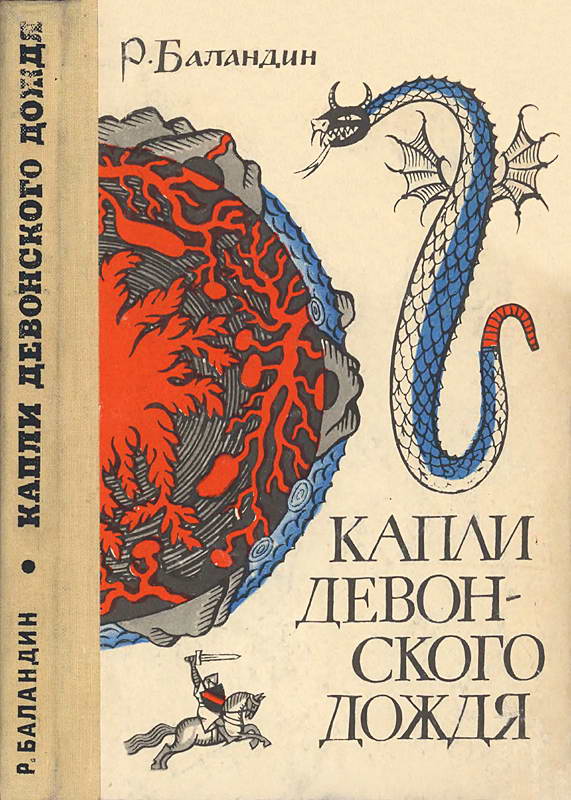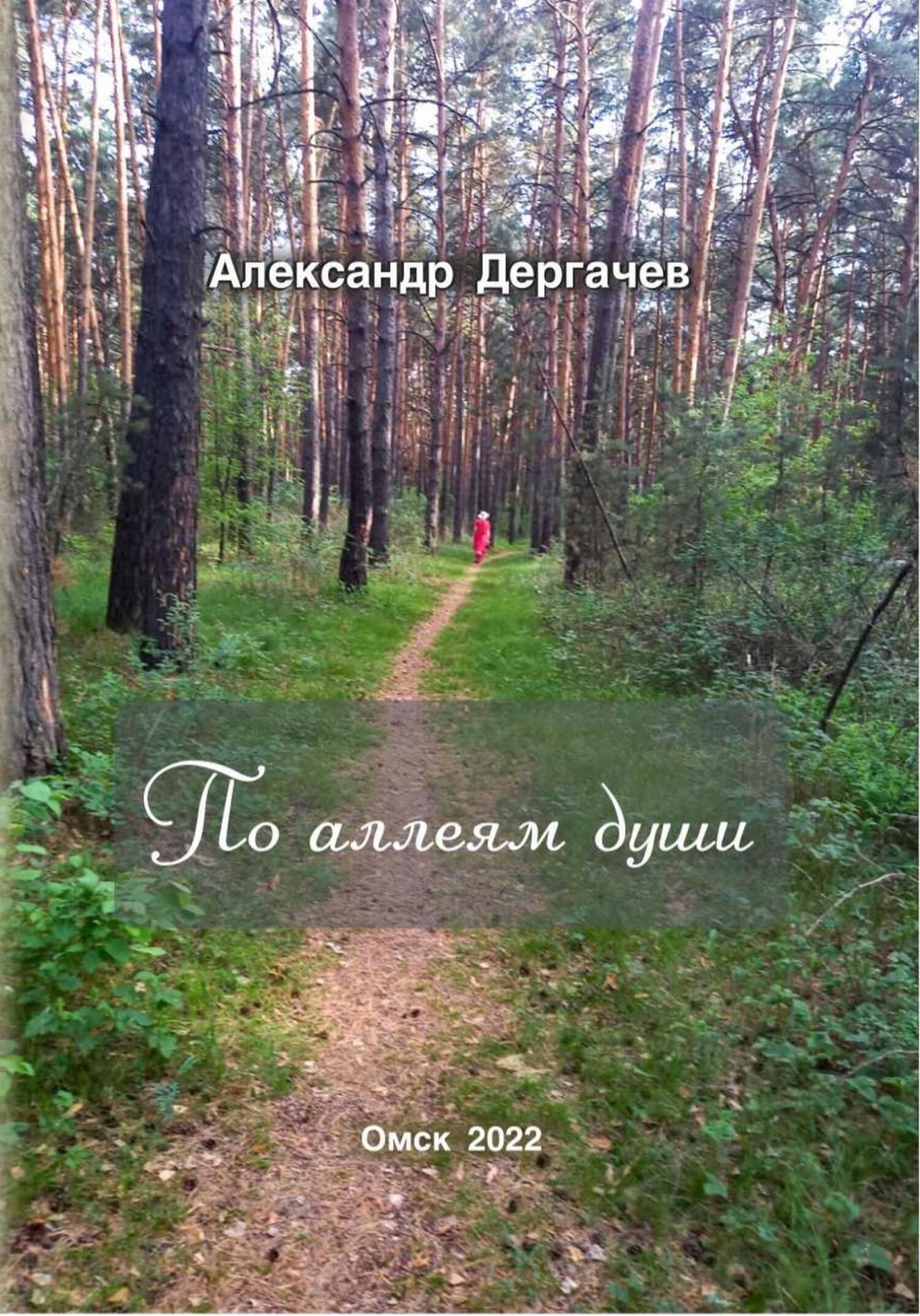Шрифт:
Закладка:
Молодой журналист Доминик Рууд живёт так же, как тысячи обычных людей. Ездит на работу, гуляет в парках, проводит вечера в любимом пабе — в общем, ничего интересного. Так было, пока к Доминику не явился странный незнакомец по имени Натан Хейм. Он просит журналиста ни много ни мало… изменить его судьбу! Натан утверждает, что с какого-то момента он живёт по сюжету прочитанной им книги. Его бросила любимая женщина, более того — финал книги обещает Хейму трагическую развязку. Сложно поверить в такую странную историю! Доминик пытается отказаться от нелепой просьбы, но жизнь его вдруг превращается в круговерть загадочных приключений. Невероятные совпадения, мистические знаки, встречи с живым покойником и даже Мойрой — владычицей человеческих судеб… Доминик мечтает вырваться из жуткого лабиринта и, кажется, придумывает, как спасти Хейма. Но этим способом журналист может разрушить жизнь своего близкого человека… Какой же выбор сделает Доминик? Сумеет ли он развязать таинственный узел судьбы.