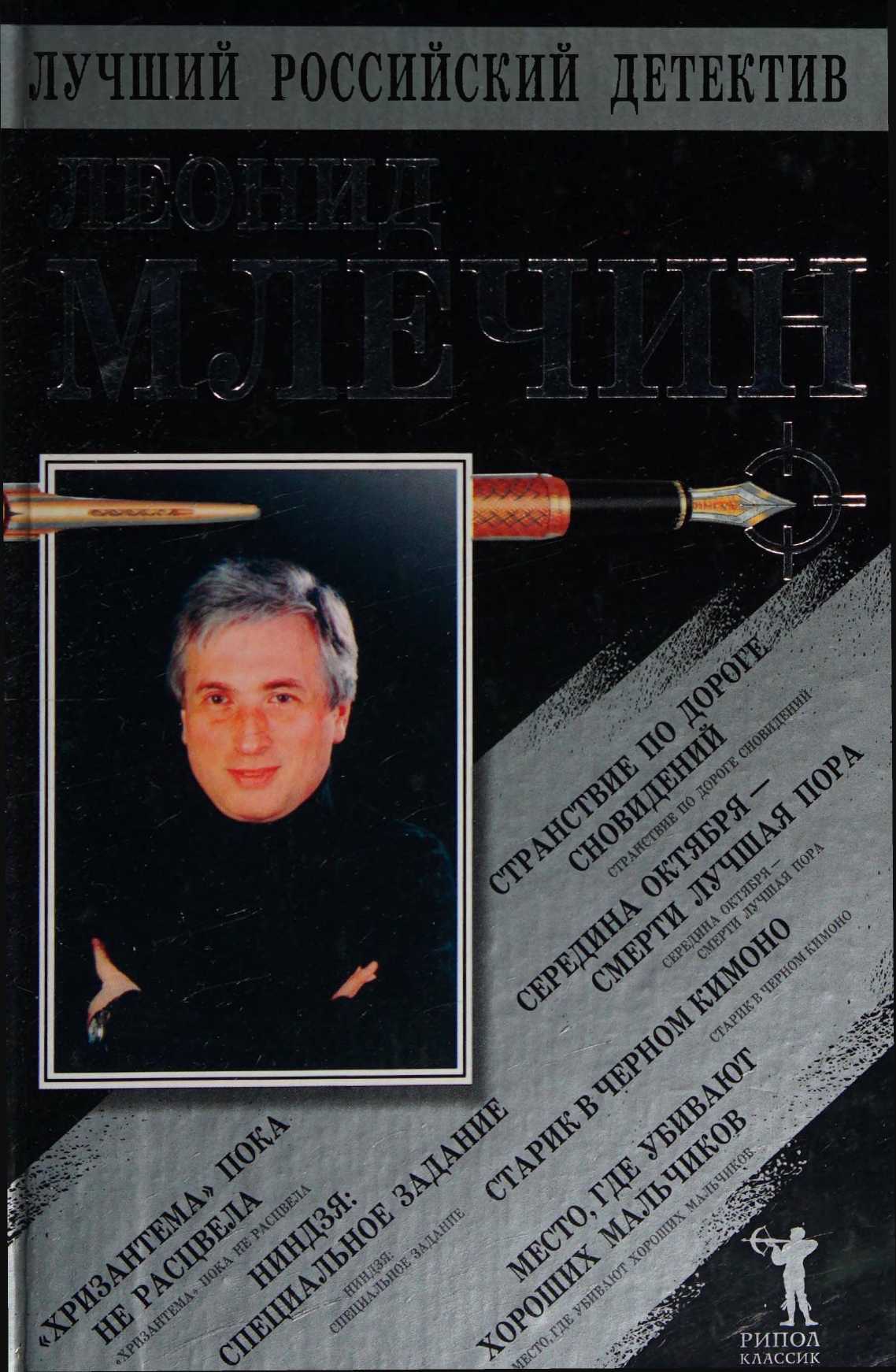Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Для одинокой Лары труппа родного театра – единственная семья. Но в семье, как говорится, не без урода, и вот уже самая настоящая трагедия разыгрывается не на сцене, а за кулисами. Актрисам кто-то подливает смертельный яд, супругу режиссера выбрасывают из окна, прима получает удар ножом – и всякий раз где-то рядом находится сама Лара. Может, охотятся именно за ней? Но кто и почему? Возможно, разгадку подскажет письмо французского нотариуса, сообщающего об оставленном Ларе наследстве…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анна Васильевна Дубчак»: