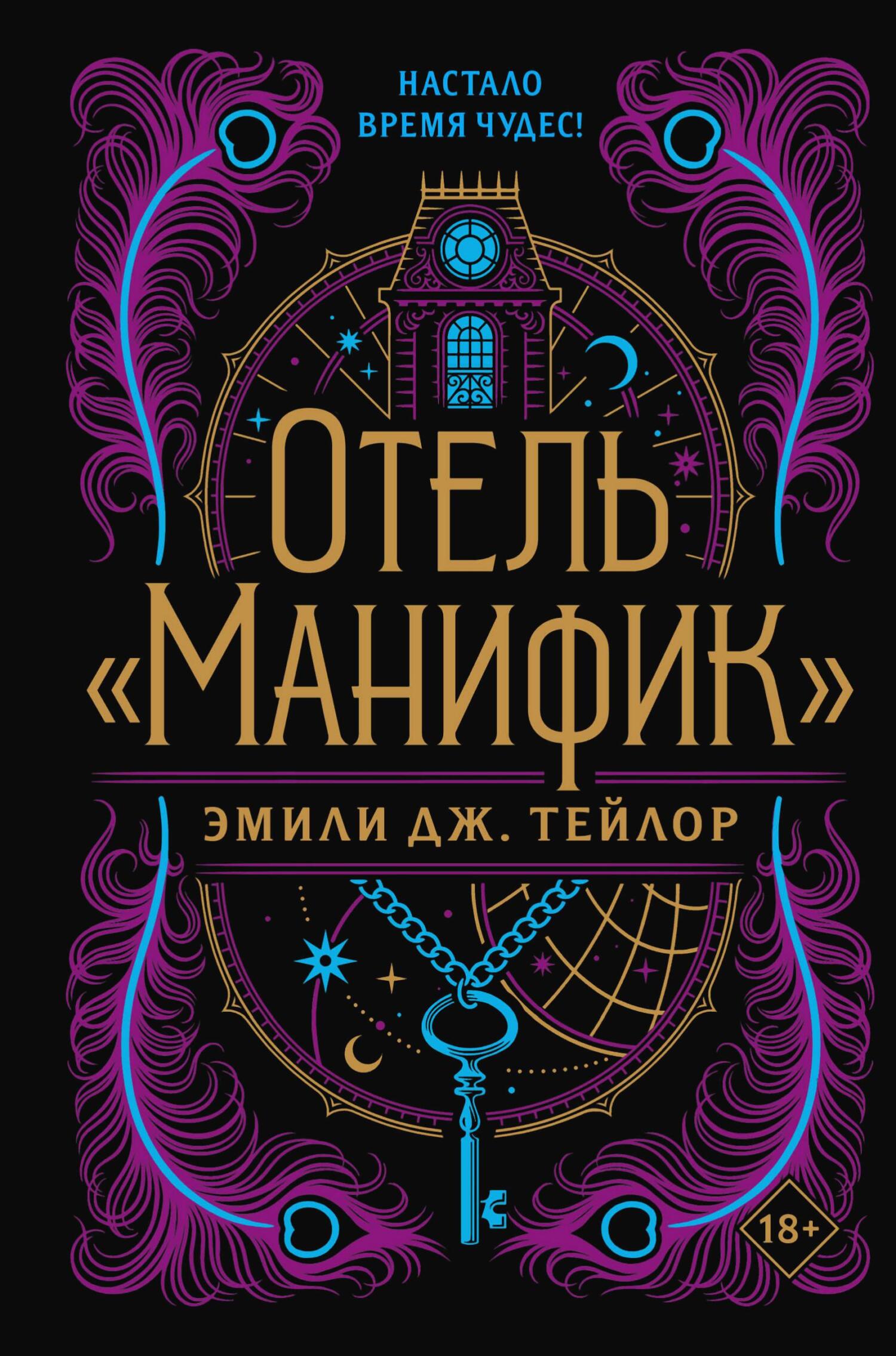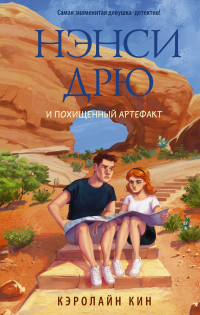Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Самое полное собрание повестей и рассказов Джека Кетчама на русском языке. Добавлено 11 новых рассказов (авторский сборник "Выезд на бульвар Толедо Блейд") и данный сборник перезалит заново.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Джек Кетчам»: