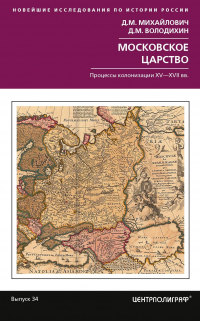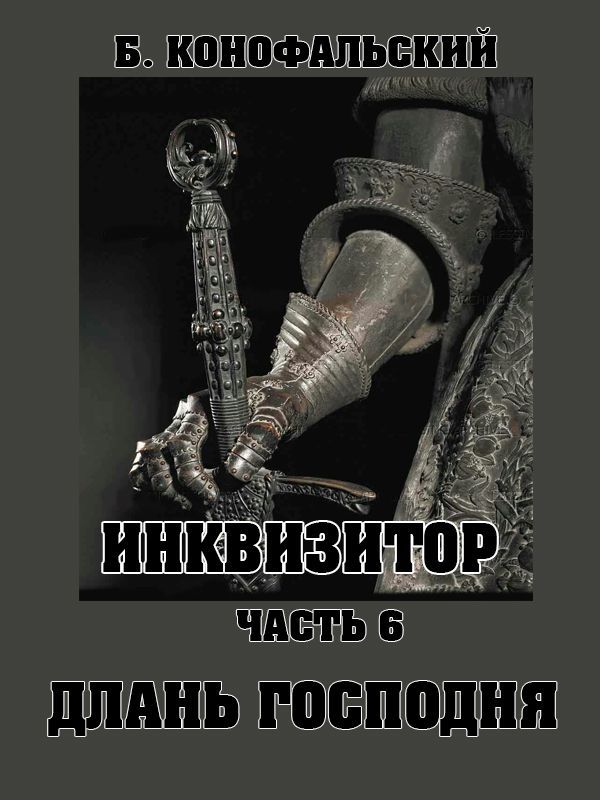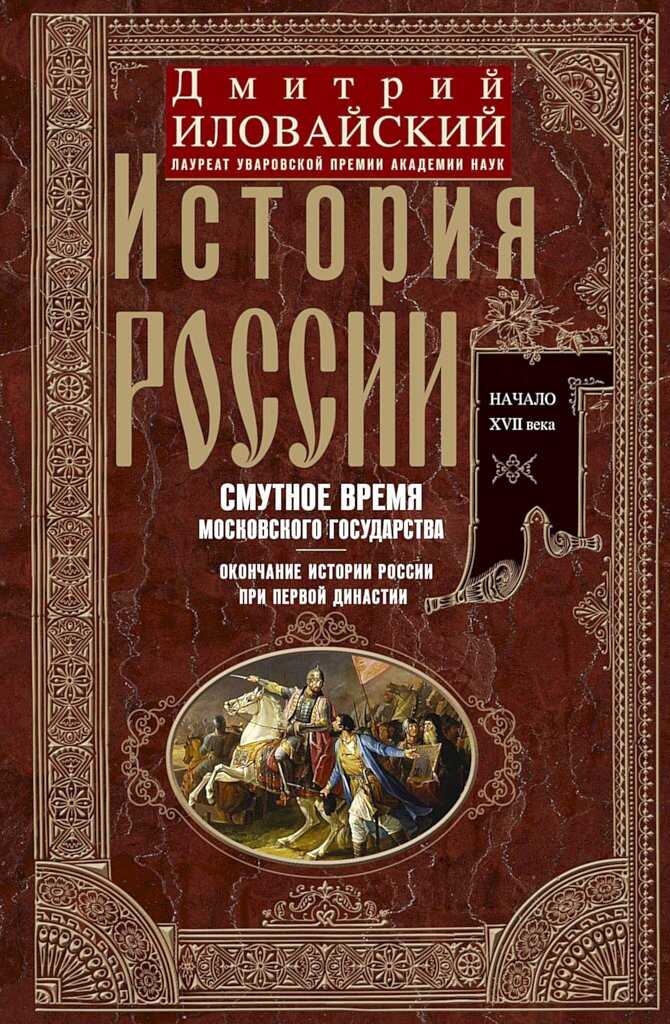Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Начало XVII века. Войско Лжедмитрия I вторгается в Россию, переживающую к этому времени глубокий кризис, вызванный опричниной, Ливонской войной, голодом и эпидемиями. Начинается так называемое Смутное время, продлившееся без малого два десятилетия. В этот тяжелый для России период, самая незавидная участь была у холопов, которые из-за происходящих событий находились практически в абсолютном подчинении у хозяев без какой-либо надежды на освобождение. Молодой холоп Михайла Чевкин, мечтает откупиться от ненавистного князя Воротынского, чтобы вернуть себе вожделенную свободу. И ничто и никто не смогут помешать ему достигнуть поставленную цель.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Татьяна Богданович»: