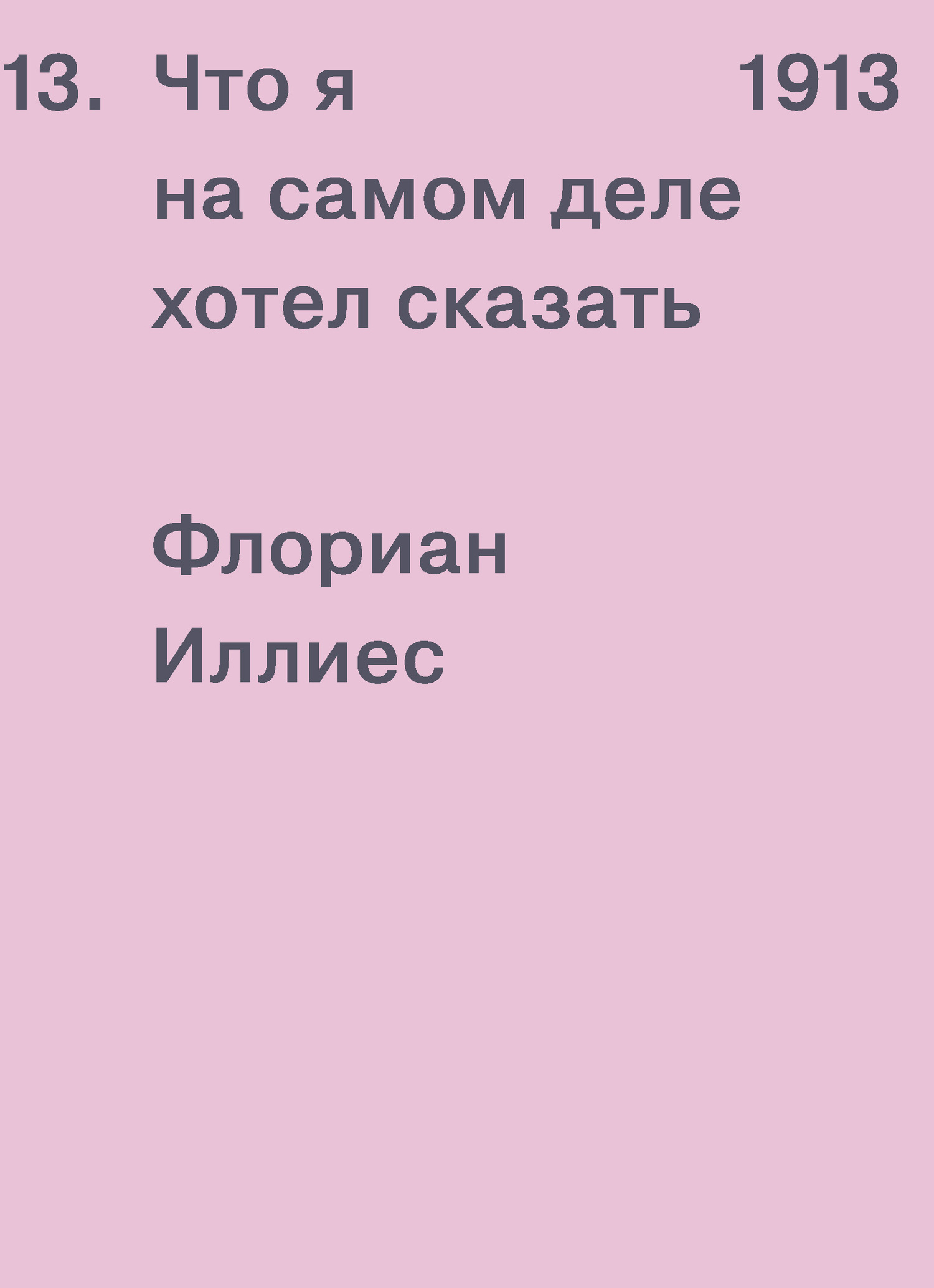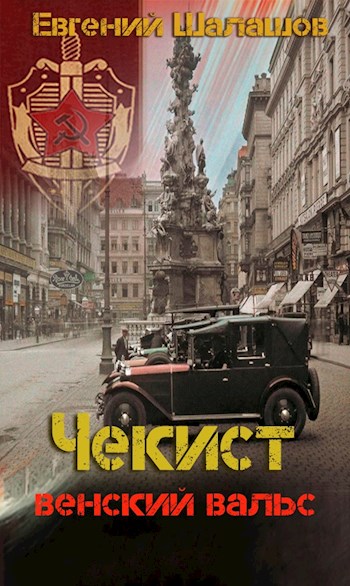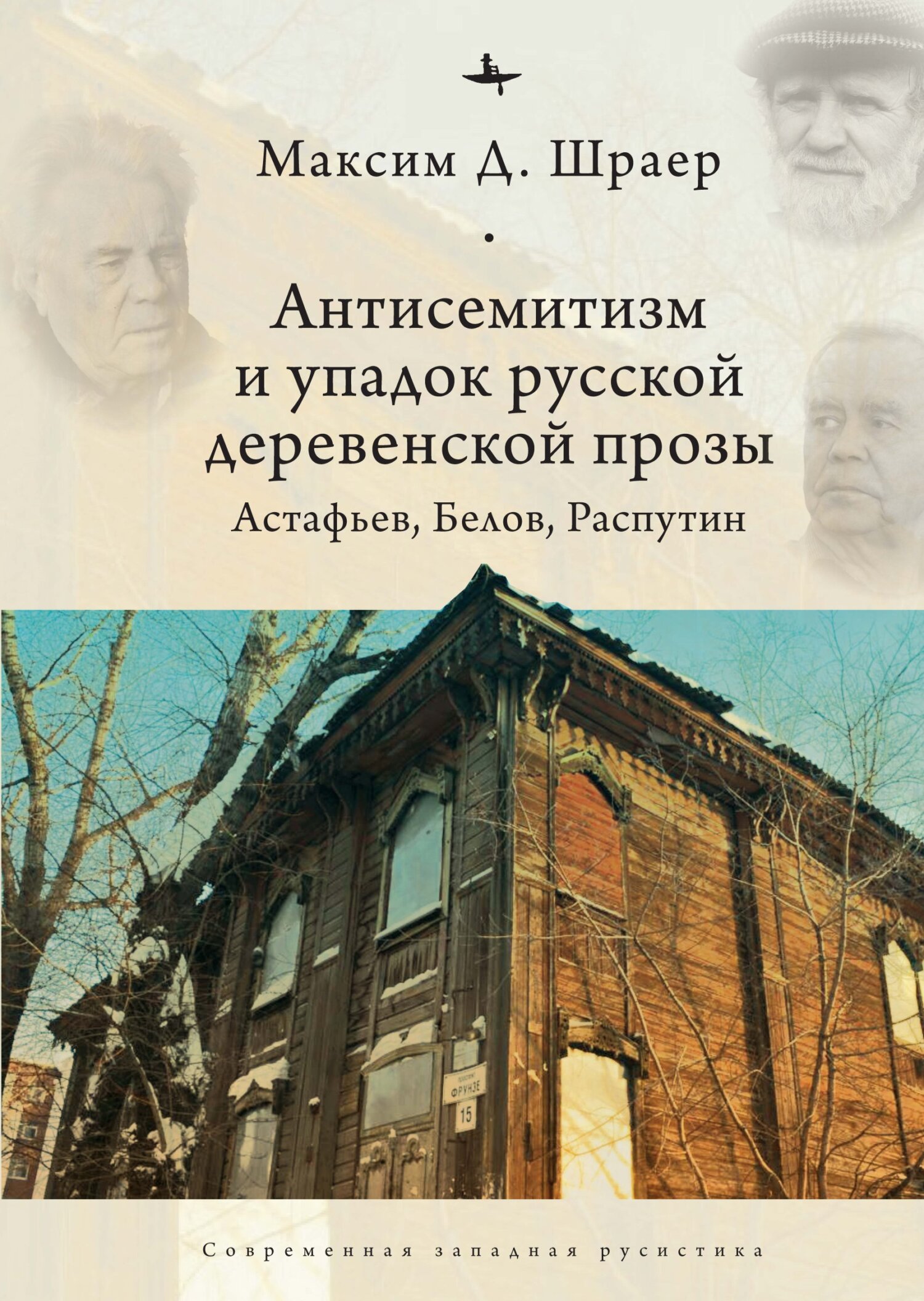Шрифт:
Закладка:
1913 год - это не просто последний год перед Первой мировой войной, но и год, когда произошло множество событий, которые изменили ход истории и культуры. В этой книге Флориан Иллиес рассказывает о жизни и творчестве выдающихся личностей, которые в этом году сделали свои открытия, шедевры и ошибки. Он показывает, как они пересекались, влияли друг на друга и создавали новые течения в искусстве, литературе, философии, науке и политике. Он также рисует яркий портрет эпохи, полной контрастов, противоречий и надежд.
Если вы хотите узнать больше о том, что происходило в 1913 году, как жили и чем занимались такие люди, как Кафка, Рильке, Эйнштейн, Пикассо, Фрейд, Хитлер и многие другие, то эта книга для вас. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и погрузиться в увлекательный мир прошлого.