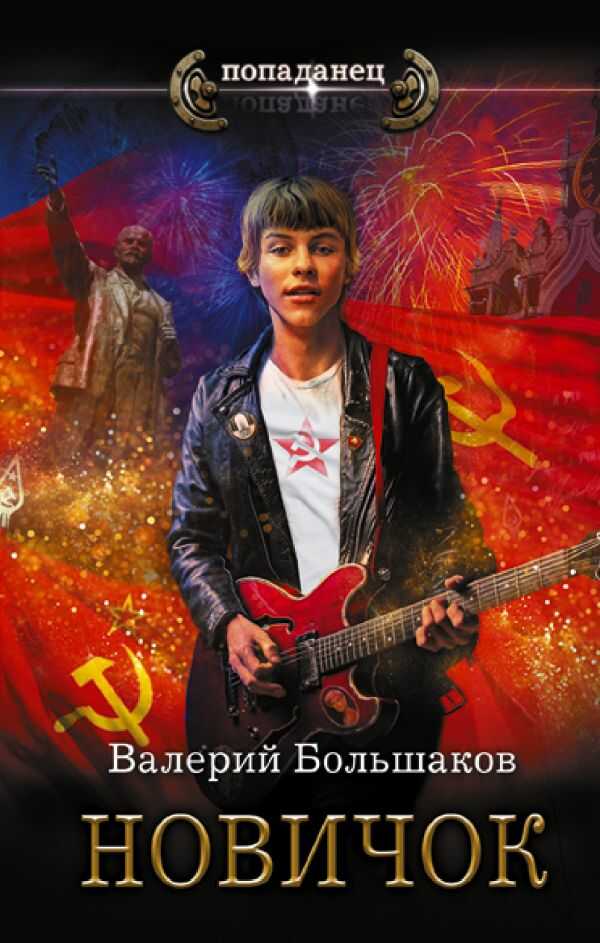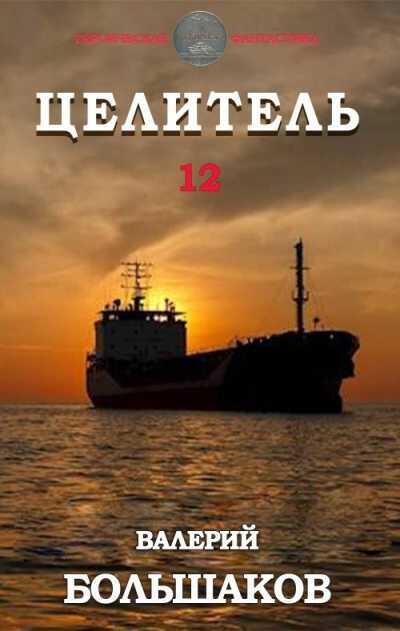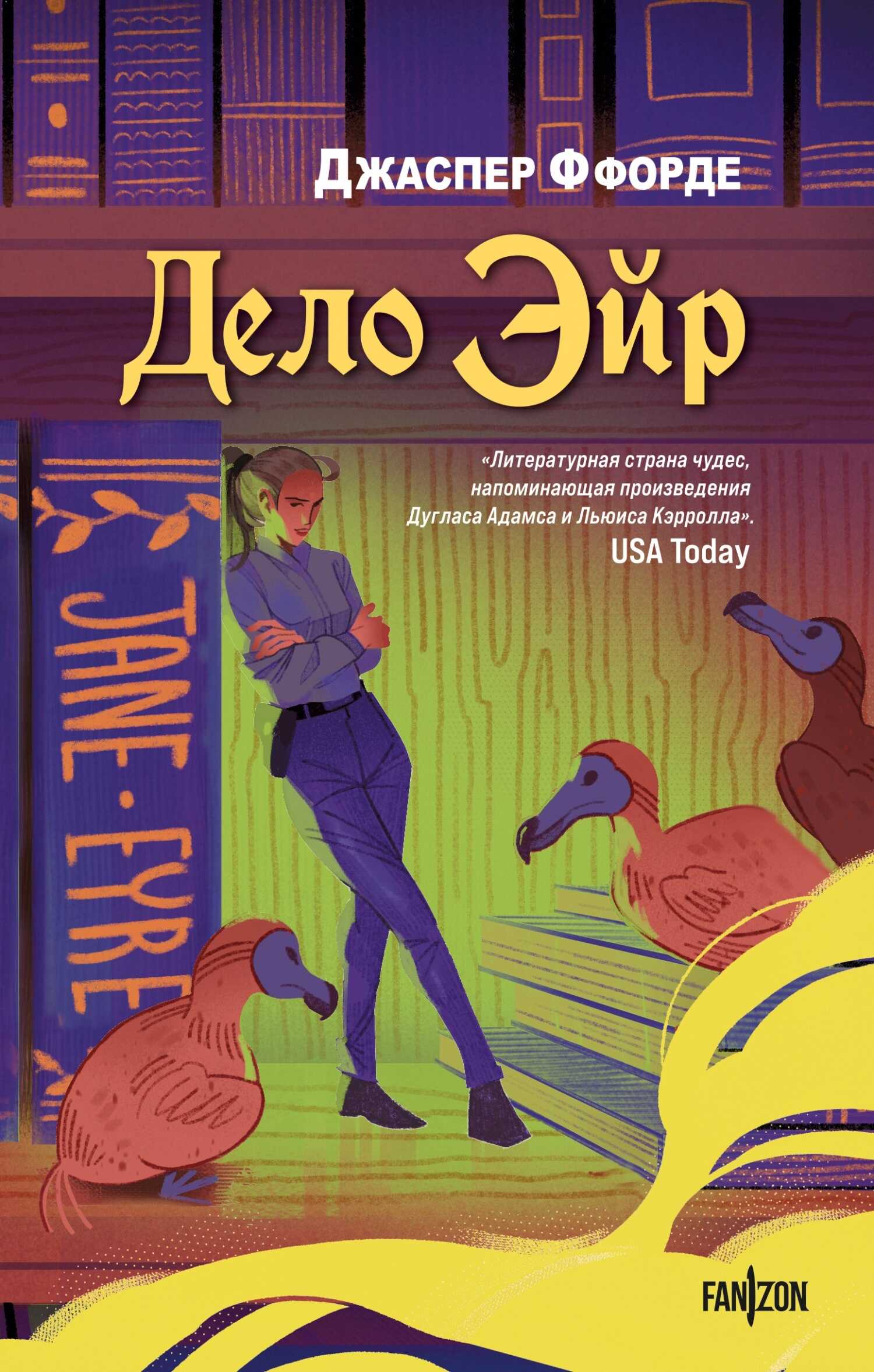Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Михаил Гарин считает себя этакой гигантской флуктуацией, притягивающей приключения. Но такая уж у него натура - ввязываться в драку, если бьют своих. И вроде бы всё благополучно и стабильно в СССР, но уже реют грозные зарницы, предвещая новые пакости человечеству. "Англичанка гадит", это точно. А, может, и Гомеостазис Мироздания подключился? Ничего... Все получат сдачи!
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Валерий Петрович Большаков»: