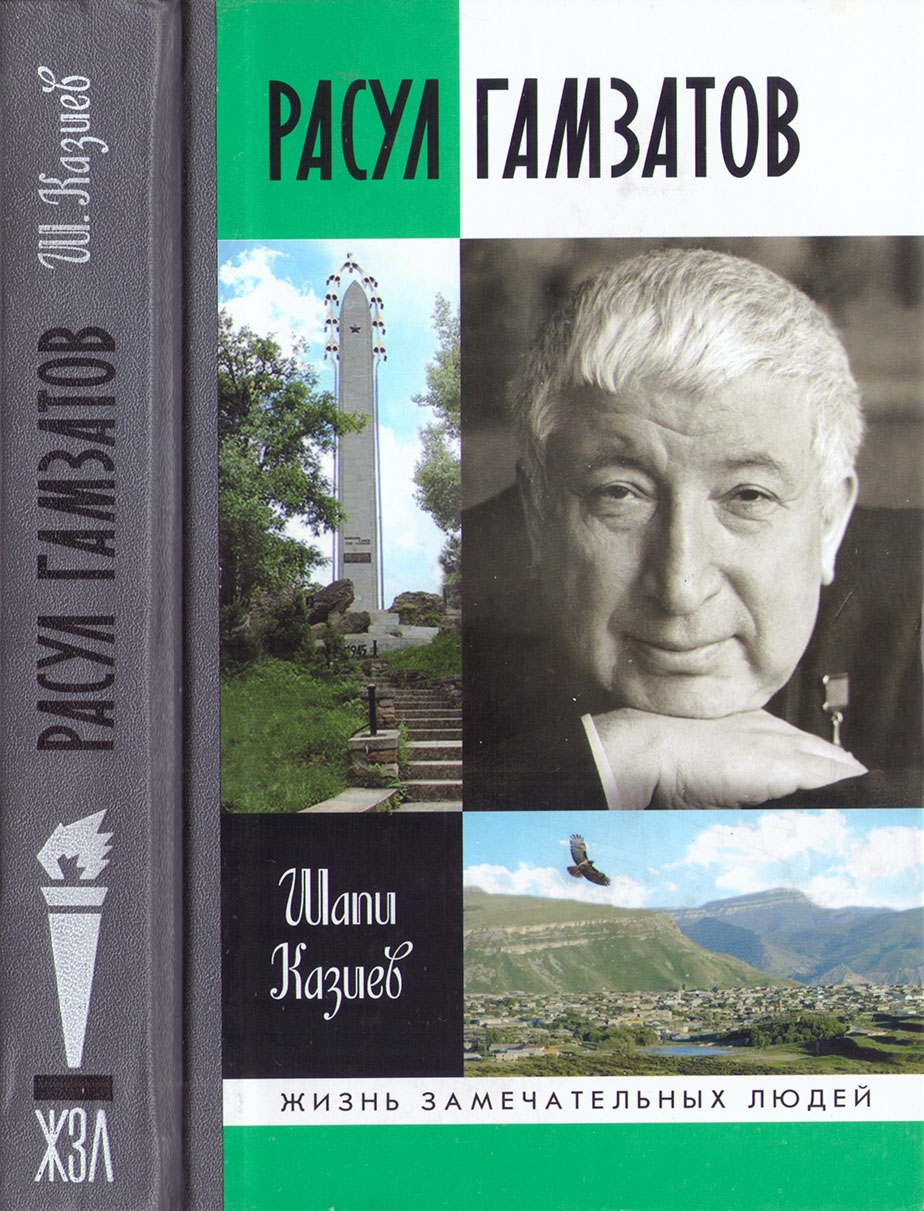Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Машенька, девятнадцатилетняя оторва с Китай-города, переборщила с веществами и теперь не понимает ни где она, ни кто в самом деле… Машенька всё помнит из прочитанного и просмотренного. А себя вспомнить не может. Правда ли, что в бывшем магазине игрушек живёт князь Мышкин, что у кукол такие же права, как и у людей, что в России ходить с открытым лицом неприлично, что вот-вот начнётся мировая война за цвет кожи. Осталось выяснить: где правда, чью сторону выбрать и за кого из многих себя принять. Книга содержит нецензурную брань.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Дмитрий Александрович Москвичёв»: